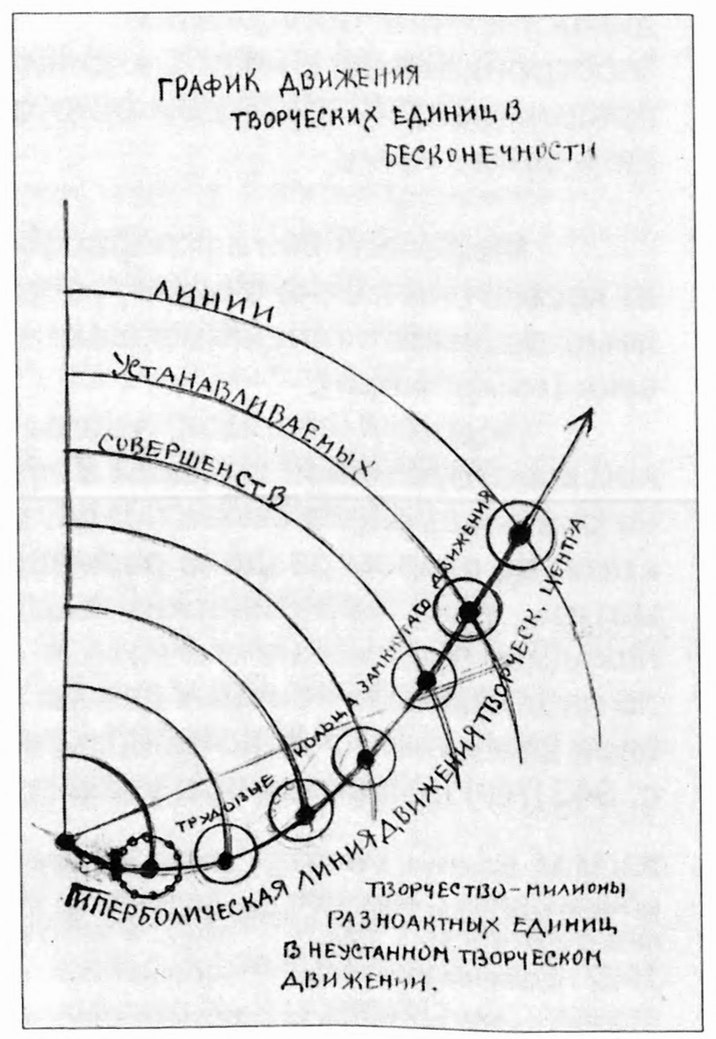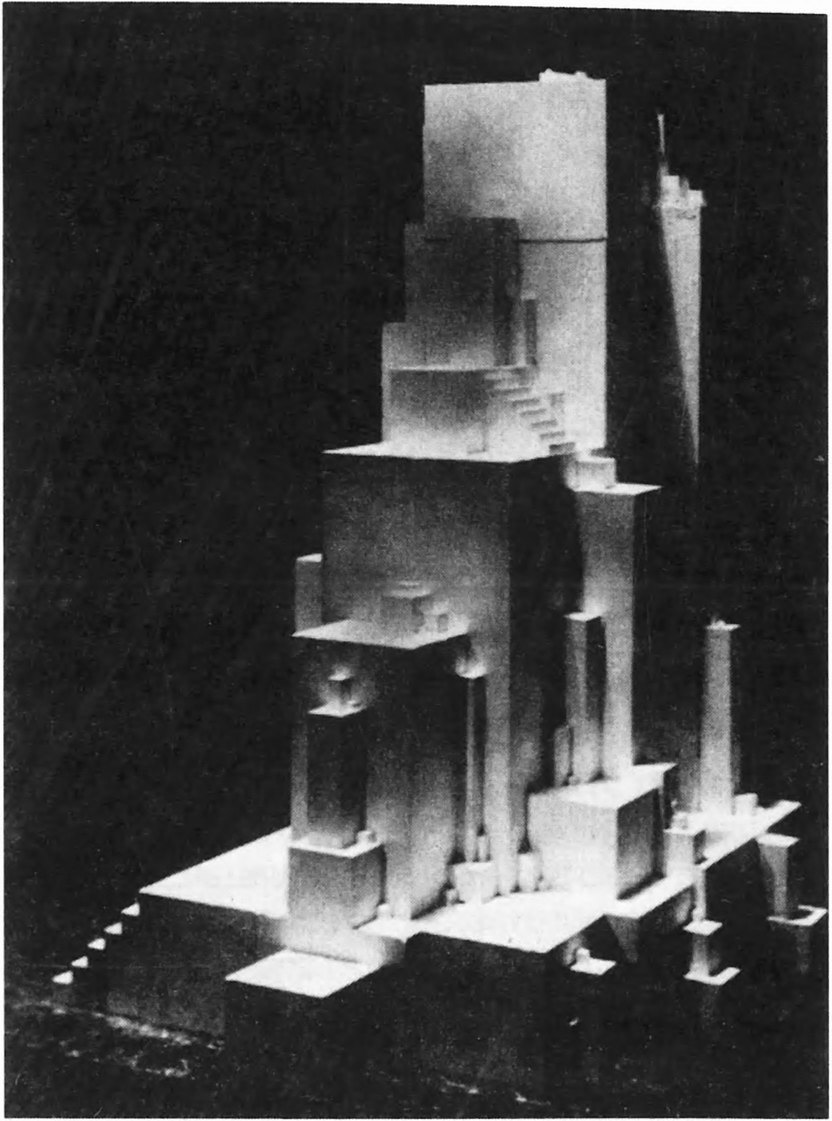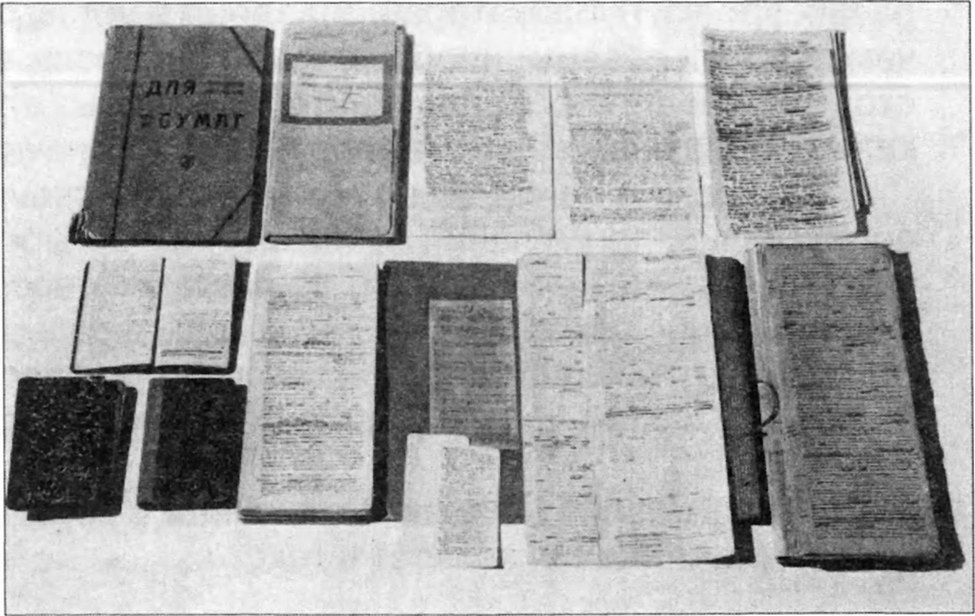|
|
А.С. Шатских. Малевич после живописи
В третьем томе Собрания сочинений Казимира Малевича публикуется трактат «Супрематизм. Мир как беспредметность, или Вечный покой», законченный в Витебске в феврале 1922 года. В теоретическом наследии художника это произведение занимает центральное место; в нем, по авторскому слову, строились «только Супрематические возвышенности и низменности» (349)1. Настоящим изданием архивной рукописи исполняется воля Малевича и представляется возможность ознакомиться с резко своеобразным «пейзажем» философского супрематизма на языке оригинала. Путь в метафизику начался для Малевича с явления «Черного квадрата». Картине предшествовали первые полотна абстрактного геометризма, сложные красочные построения, генетически связанные с заключительной стадией живописного алогизма. Летом 1915 года Малевич внезапно перекрыл цветную композицию черным четырехугольником; впоследствии «одна из учениц Малевича рассказывала, что он считал «Черный квадрат» событием такого огромного значения в своем творчестве, что целую неделю не мог ни есть, ни пить, ни спать»2. Художник не сразу нашел название для новой живописи — в конце концов наиболее адекватным стало изобретенное им слово «супрематизм». Этимология его восходила к латинскому корню «suprem», означало оно высшую стадию, главенство, первенство. Малевич поначалу полагал, что этим термином он выразил доминирование цветовой энергии в новом живописном направлении. В перспективе дальнейшего стало очевидным, что уже в самом имени было закреплено событие трансценденции: в коннотации термина входило и слово «превосходство» — превос-хождение. Развитие живописного супрематизма уложилось в три-четыре года; его завершили полотна «белого на белом», созданные в середине 1918-го. Известная фраза: «О живописи в супрематизме не может быть и речи, живопись давно изжита, и сам художник предрассудок прошлого»3, — была написана в 1920 году, но констатировала она ситуацию уже сложившуюся: уйдя в сферу умозрения, супрематист считал, что оставил картины навсегда. Экстатическое переживание, испытанное Малевичем при рождении «Черного квадрата», не раз отразилось в белых стихах, сопровождавших супрематический этап его биографии (одно из них: «Я нахожусь в 17 верстах от Москвы // Сейчас 3 минуты первого 11 июля 1-й час 1918// Три минуты закончило время нашего быстрого дня во мне. мчались миллионы полос. тупилось // зрение и осязать не могло лучами места. // Я перестал видеть. Глаз потух в новых проблесках...»4). Мистический опыт сыграл генеративную роль в возникновении философии Малевича: «мировая подлинность» была явлена лично ему, и ее всеобъемлющая наглядность наделяла его правом на выражение постигнутой истины. Художник принял на себя это задание; «являть явления явлений», по авторскому слову, стало для него нравственным императивом. «Черный квадрат» в высшей степени амбивалентен: это не конец или начало, а «конец/начало». И в метафизике Малевич ощущал себя, с одной стороны, «последним философом», обнаружившим абсолютную ложность всего до него существовавшего, с другой же — «первофилософом», посмотревшим на мир непредвзятым взглядом. У него был ответ на извечный вопрос человечества; этот ответ первоначально был предъявлен ему живописью, и автор «Черного квадрата» много лет положил на то, чтобы довести истину до сознания заблуждающегося общежития, как он обобщенно называл человеческую цивилизацию. Несомненно, что то был скорее акт пророка, нежели философа; отсюда эсхатология «первого-последнего» учения о беспредметности, его мессианские интонации — родовые качества жизнетворчества великих мистиков, харизматических «учителей» человечества. Уже погрузившись в процессы рефлексии, художник никак не соотносился с тем, что эта деятельность традиционно считалась прерогативой философов. Показательно почти полное отсутствие слова «философия», то есть самого понятия, в публикуемом труде; отношение Малевича к философии вполне укладывалось в известную формулировку «философия — это история человеческих заблуждений» (недомыслов, по его терминологии). Сам художник был мыслителем в высшей степени самостоятельным и независимым. Его независимость была и вынужденной, и избранной. Вынужденной из-за отсутствия образовательного ценза, интеллектуальных навыков, что всегда ставилось ему на вид современниками и заставляло называть себя «без-книжником»: «Беспредметник — без-книжник, он не верит в практическую книгу, не верит в практическую науку, для него последняя не больше, как любопытные и занятные комбинации элементов, творящих то или иное действие. Он не верит, что практическая наука, книга — единственный свет, освещающий пути истины, и что она знает истину. Знающий науку человек знает истинные пути своего движения — беспредметник ставит вопрос вообще о путях, есть ли таковые и куда они ведут человека» (134). Независимость осознанная обеспечивалась непосредственной явленностью истины, ее личностным переживанием. Закрепляя свои постижения в слове, Малевич не нуждался ни в каких посредниках; путь его был традиционным путем философа-мистика, опиравшегося на свой внутренний опыт, неспособного ни к исследованию, ни к интерпретации чужих идей, мыслей, текстов, неподвластного априорным предпосылкам в восприятии мира, внедренным образованием. Помимо парадигмы мистицизма, столь влиятельной в супрематической философии, этот импульс заставляет видеть в Малевиче своеобразного стихийного феноменолога, исходившего из собственного очевидного опыта и свободного от предыдущих спекуляций кого бы то ни было. Декларируемое гуссерлевской феноменологией «возвращение к изначальному и, если угодно, наивному опыту, в котором мы имеем дело с целостностями»5, для Малевича было не возвращением, а органичным состоянием6. Эта независимость и сказалась в наделении новейшего Искусства — художник всегда писал это слово с большой буквы — функциями философии. Понятие «картина мироздания» в его случае обладало некой философской тавтологичностью, поскольку поначалу это была действительно картина; она и побудила Малевича к супрематической редукции вначале живописи, потом действительности. Супрематизм стал ответственным за онтологический горизонт бытия; трансцендирование живописного опыта привело к выработке новой метафизики. Преодоление предметности рассматривалось Малевичем как необходимый, неизбежный путь, — «беспредметность» означала не только установку, но и процесс, сущностью которого был переход от конечного (предметного) мира к иррациональному непостижимому Ничто. Философский супрематизм строился как учение, растущее из опытной почвы искусства: «Через живописный опыт, в живописном доказательстве я вижу единственный подлинный опыт, доказавший фиктивность представления и предположения, вскрывший истину того, что предмет не существует как подлинность и искать его — простое безумие человеческого разумного расстройства» (211—212). Парадоксальность крылась в том, что учение об «освобожденном Ничто» представлялось автору результатом «доказавшего доказательства», другими словами, логического анализа, — то есть к иррационализму Малевич шел рациональным логическим путем. В художнике-философе совмещались проницательность интуиции и пристальность рассмотрения, детальность рефлексии и выводов; он не только верил в явленную ему и через него истину беспредметности, но и стремился доказать ее. Неудивительна поэтому противоречивость в восприятии креативной личности родоначальника супрематизма — многие называли и называют его рационалистом, многие — интуитивистом. Эта противоречивость коренилась в амбивалентной сущности его философствования; в своем иррационализме Малевич был несгибаемым логиком7. Супрематический энергетизм, родственный энергийному дискурсу мистических традиций, вместе с тем прочно укоренен в эпистемологии начала XX века. У философской истины Малевича много словесных ипостасей — Ничто, беспредметность, Бог, мировая подлинность, вселенское возбуждение, вселенская сущность, мировая сущность. Уже в самом перечне ощущается «эклектичность» супрематической теории, поскольку здесь слышно эхо различных традиций, различных дискурсов. Один из любимых образов Малевича — «мерцание» («мерцание новой мысли», «мерцает образ человека»); в его тексте в свою очередь «мерцают» слова, фразы, термины, по которым можно судить о духовных течениях, учениях, популярных «общих местах», адсорбированных из атмосферы начала века. Однако гениальная наивность Малевича не просто эклектически соединяла многие интеллектуальные токи начала XX века — как мыслитель он сумел претворить их в сферу первородных мировоззренческих интуиций. Художник был чуток к ключевым словам, фразам инаковых учений и традиций, стихийно-герменевтически истолковывая их. Отсюда появляется в его тексте «мыслю — значит, существую» (в перифразе декартовского изречения красноречива замена каузального «следовательно» на фиксирующее «значит»); Малевич тут же опровергает это фундаментальное для европейской философии Нового времени положение — «но могу не мыслить и существовать» (85), и его опровержение только на первый взгляд кажется наивным. Отсюда происходит обыгрывание предложения «бытие определяет сознание», с последующей авторской рефлексией, переворачивающей темпоральную последовательность в этом положении. Ключевым для Малевича оказывается заглавие сочинения Артура Шопенгауэра «Мир как воля и представление». Фраза эта воплотила для русского беспредметника квинтэссенцию заблуждений человечества, и развенчанию этого «недомысла» он посвятил не одну страницу своей книги, хотя, как признался в одном из писем к Гершензону, не штудировал самого труда немецкого мыслителя8. Показательны поиски Малевичем названия собственного трактата. Его привлекала вербальная конструкция с употреблением энергичного вектора «как»; он испытывает на емкость, выразительность несколько заглавий. В конце концов выкристаллизовывается «Супрематизм. Мир как беспредметность, или Вечный покой»; этот мир противоположен миру агрессии («воли») и ложных сочинений ума («представлений»). В самом тексте Малевич будет оппозиционен Шопенгауэру в главном, доказывая, что «воля» — «несмысл», ибо неустанно расправляется с собственными порождениями, а человек, «представляя мир, желает понять его истинность», и это так же есть «недомысел», поскольку надо познавать не истинность, а «единство, целостность». Название первой части «Супрематизм как чистое познание» было поставлено автором при последней корректуре, и его значение будет прояснено в дальнейшем. Свою основную идею, беспредметность, Малевич в начальных параграфах декларирует как данность, и лишь постепенно приходят ряды апофатических определений, очерчивающие статус «освобожденного Ничто»; освобождение Ничто от всех предметных загромождений было актом и результатом мысли Малевича. Примечательны в трактате взаимосвязи понятий «беспредметность» и «супрематизм». Беспредметность чаще всего находится в синонимических отношениях с супрематизмом; возникающая порой тавтология («Супрематизм же как беспредметность не имеет никаких абсолютно определений», 110) генеративна для экспрессивного стиля Малевича. Иногда супрематизм выступает как название теории беспредметности или учения о беспредметности; автор пишет о супрематизме как о ступени к бесконечности, как о лике «без-личья»; оба определения означают так же трансценденцию и Искусства, и жизни. Наряду со многими терминами у Малевича смысл обеих дефиниций зависит от контекста, отсюда их многозначность, сопряжение разных уровней, обширность семантических полей. Трактат открывается постановкой глобального этического вопроса, как и полагается у мыслителей-«учителей». Это вопрос о смысле человеческой жизни, точнее — человеческой культуры. Первопричину полной несостоятельности культуры Малевич видит в ее прагматической ориентации: «Итак, эпоху всей культуры, длившейся до двадцатого века, я назову ложной практической культурой, в том числе и культуру всего Искусства» (144). Тотальная критика всех форм «практического реализма» начинается с разоблачения ошибки, именуемой «прогрессом». Здесь недавний футурист, приверженец достижений современности, высказывает взгляды, роднящие его с соотечественниками-современниками, представителями религиозно-философской традиции, отказывавших идее прогресса в какой-либо ценности. По Малевичу, ложность прогресса как такового лежит в том, что на каждом последующем этапе неизбежно уличается неподлинность предыдущего, и вчера почитаемый смысл сегодня оказывается «несмыслом», а завтра та же участь постигнет сегодняшние достижения; прогрессу так же свойственно стремление к завершенности, к цели, то есть конечности, а конечности не существует в безграничном беспредметном мире, это иллюзия («галлюцинация»). Вслед за длинным рядом мыслителей всех времен и народов Малевич отказывает видимой реальности в истинности. Доказательства иллюзорности всей общежитейской жизни, уподобление ее сумасшедшему дому (психиатрической лечебнице), где больные принимают свои галлюцинации за действительность, свидетельствуют о самоидентификации супрематиста с врачевателем, поставившим «диагноз» больному человечеству — «галлюцинация предметных достижений» (медико-биологический дискурс в будущем так же будет определять параметры малевичевской мысли, и выработанную в Петрограде художественно-педагогическую теорию он, как известно, назовет «бактериология живописи»). Основной причиной возникновения собственных текстов супрематиста и было вспоможение человечеству в самопонимании, пробуждении, то есть обнаружении себя не в эмпирике, а в бытии; по сути, в этом заключался главный пафос и первой части, и всего трактата в целом. Интеллектуальная автономность Малевича обусловила появление его причудливых терминологических определений, поскольку как теоретик он стремился создать категориальный каркас, структуру своей картины мира. Философский супрематизм строился в ключе квази систематизации, классификаций и схем; Малевич использовал персональные, самостоятельно изобретенные категории и общие, почерпнутые из «воздуха эпохи». Триада как метод теоретического конструировании оказалась наиболее притягательной для философа-супрематиста, сопрягаясь с предструктурой его мышления, укорененного в христианском менталитете. Ведущими категориями в первой части сочинения становятся Наука, Религия, Искусство. Это три пути, три силы, три движения, формирующие мир общежития; в то же время эти категории наделены некими антропоморфными чертами — у них есть воля, характер; в одном из эпизодов они становятся учениками Природы-беспредметности. В сложении мировоззрения Малевича существенную роль сыграли символистские умонастроения эпохи: его категории-«персоны» вписываются в контекст традиционных символических обобщений сил бытия (Человек, Природа, Жизнь, Смерть и другие). Вместе с тем олицетворение магистралей жизни в аллегорических, по сути дела, фигурах проявляет наивно-архаизаторские черты мышления философа-самородка. Онтология супрематизма сопрягается с персональной мифологией, в результате чего рождается своеобразная мифо-философия Малевича. Религия в первых разделах трактата это практически всегда Церковь, социализированный иерархический институт, ответственный за «духовное тело» человека (один из оксюморонов Малевича-парадоксалиста; вместе с тем анализ многочисленных телесных аллюзий в трактате в свете современной «феноменологии тела» не лишен интереса и может представить теоретический супрематизм в неожиданном ракурсе; этот аспект, однако, выходит за рамки настоящей статьи). Малевич, как правило, апеллирует к исторически сложившимся религиозным институтам, и конфессиональные разделения лишь доказывают, по его мнению, предметную направленность земных религий: «Религия сутью имеет перед собой единство Бога как беспредметности. Но, однако, вместо утверждения Бога в единой системе <все> с великой враждой противостоят друг другу из-за системы достижения его, и для всех единый Бог распадается в различиях обрядности. Обрядность как система становится сутью <более> главной, нежели Бог, из-за того — как идти к Богу или какую нашивку и какую одежду носить» (179). Искусство в философии художника Малевича занимает центральное место. Примечательно, что только у Искусства нет парного термина, запирающего его в границах предметности; у двух других в тексте постоянно появляются предметные институциональные двойники: Наука коррелирует с Фабрикой, Религия — с Церковью. В течение истории Искусство вынуждено было подчиняться требованиям общежития и только в XX веке, осознав себя самостоятельным, сумело выйти к своей сути, освободиться от предмета. Выявление «живописной сущности» не раз обстоятельно будет обсуждено на страницах трактата. На Науке лежит ответственность за всю полноту взаимоотношений с реальностью, за «материальное тело» человечества. В конце трактата Наука преобразится в Фабрику, но до этого на протяжении многих страниц она распадается и размножается на различные направления теоретического и прагматического интереса. Вся мыслительная и созидательная деятельность человечества в первой части трактата умещается под «зонтом» Науки: чистая Наука стремится постигнуть природоестественное устройство мироздания, прикладная наука (=техника, производство) обеспечивает «харчевую жизнь». Первую Малевич даже приравняет по значимости к Искусству, поскольку она — помимо своих намерений — вышла к беспредметности. В то же время и Наука, несмотря на то, что общежитие верит в ее непогрешимость и результативность, не дает и не может дать ответа на главные вопросы бытия: «Наука творит пути, тогда как сама не может открыть ни одного пути во Вселенной. Она не может знать, откуда и куда все направляется, и какая цель всему перемещению назначена, и существует ли оно. Перемещение остается неизвестным» (135). (Малевич в силу «без-книжности» совсем не желает знать, что Наука, особенно со времен позитивизма, и не дерзала ставить такие «ненаучные» вопросы, которыми, как правило, задавалась философия; однако и философии Шопенгауэр запретил заниматься проблемами «куда» и «зачем»: «Подлинно философское воззрение на мир — то, которое учит нас познавать его внутреннюю сущность и таким образом выводит за пределы явления, спрашивает не «откуда», «куда» и «почему», а везде и повсюду только «что» мира...»9). Наука стремится познать и раскрыть законы Природы, главного репрезентанта беспредметности в первой части трактата. Одним из самых необычных эпизодов становится сочиненная автором «философская сказка» о Природе как учителе и трех ее учениках, Религии, Науке, Искусстве; в интонациях архаико-поэтического жанра сказки ярко проявился мифологизирующий склад мышления Малевича. Его риторика впечатляет нарративной мощью, а в описании Природы-учителя достигнут своеобразный апогей апофатики: «<В учителе> не было никаких причин, никакого Искусства, ни Совершенства, ни Культуры, ни силы, ни предмета. В нем не было ни света, ни тьмы, ни холода, ни огня, ни жизни, ни смерти, ни легкого, ни тяжелого, ни большого, ни малого. ... у учителя не было ни рук, ни ног, ни головы, ни языка, не было ничего того, что бы смогло ощутить или чуствовать, познать. И не было того, что могло бы сделаться предметом обсуждения — учитель был освобожденное ничто» (101). Самодостаточная и герметичная, Природа у Малевича наделена статусом «освобожденного Ничто» и становится зримым воплощением мировой подлинности; признание единства беспредметной сущности, лежащей в основании всех эмпирических проявлений Природы, обнаруживает близость пантеизма русского художника пантеизму эзотерических духовных традиций, прежде всего мистическому пантеизму Майстера Экхарта и Якоба Бёме. Предваряя дальнейшее рассмотрение, следует упомянуть о неоднократно отмеченном сходстве жизнетворчества великих немецких мистиков и русского авангардиста-беспредметника. Ничто Майстера Экхарта, в котором растворяется душа человека, приобщившаяся к Богу, родственно супрематической трансценденции, «обожению» человека в Ничто. «Вечному покою» беспредметности единоприродна постигнутая Бёме «божественная бездна»: она — «не что иное, как тишина без сущности. В ней нет ничего, что могло бы быть. Это вечный покой, бездна без начала и конца. Это не цель и не место, и здесь ничего не найти, даже если искать.... Она лишена всякого облика, равно присутствия света и тьмы...»10. Типологическая близость истоков, представлений, образов супрематического спиритуализма и мистических учений Майстера Экхарта и Якоба Бёме отмечалась в целом ряде статей зарубежных авторов11. Субъектам экстатических восхождений ниспосылалась «харизма — такая уполномоченность, которая не дается земными инстанциями и дарование которой может быть датировано как раз переживанием прорыва»12. Сходство духовных откровений в мистических традициях разных эпох и стран неизбежно приводит к сравнительному исследованию и выявлению аналогий в этих традициях; не углубляясь в проблемы, составляющие темы отдельных и уже проведенных исследований, необходимо сказать, что поразительные подчас соответствия и совпадения супрематического и эзотерически-спиритуалистических дискурсов проистекают из архетипической сущности и общей природы запредельных духовных переживаний, испытанных мистически ориентированными мыслителями. Так, параллелям в учениях Бёме и Каббалы была посвящена не одна работа; Каббала была объявлена и одним из источников малевичевской беспредметности13. Возвращаясь к Науке в трактате Малевича, следует подчеркнуть, что он как человек, родившийся в XIX веке, во времена утверждения позитивизма, был в определенном смысле его наследник; «точное знание» для него безусловно предпочтительней, нежели спекулятивная мысль. При всех инвективах в адрес Науки автор подсознательно питает пиетет к ней, однако именно поэтому разоблачению научных заблуждений отдано так много места в сочинении. Подключаясь к традиции, Малевич постулирует: бог науки — «раскрытие причинности» (185); вторая фундаментальная задача Науки — поиски того «камня», с помощью которого построена Вселенная. Открытие делимости атома становится событием личной биографии супрематиста: «Так некогда научно было признано за действительность существование в природе неделимой единицы ... Все сознание укрепилось на неделимом научном камне. Камень неделимый оказался делимым, и все улетело в вечность, не находя себе опоры. ... Так попросту принимаем факты, как будто ничего не случилось, ведь мы живем и строим дома, а что распалось или нет какое-то доказательство — <для нас> ровно ничего не случилось особенного» (169). Для самого Малевича, судя по прорвавшемуся замечанию, это была почти что драма, хотя эпохальное научное открытие только подтверждало его выводы об отсутствии точки опоры в мироздании. Для него несомненно, что каузальности нет в беспредметной Вселенной: «...возникновение наглядной «причины» как чистой подлинности не может быть ею — уже «причина» становится моим представлением и предположением, и в конце концов «причинность» и станет тайной» (207); в ней нет так же пространства и времени, этих незыблемых априорных предпосылок бытия. Человечество само выдумало всё, и, инкорпорировав смысл в это «всё», теперь же само и радуется, устанавливая связи и следствия («...культура и есть познание собственных понятий, а не природы, в понятия не укладывающейся», 193). Утверждение релятивизма познания, фундированное в XX веке развитием физики, в философии русского художника артикулировалось с использованием богатейшей риторики. На путях критики конвенциональных установок у него появлялись первородные интуиции, которые годы спустя становились предметом открытий и дискуссий в среде профессионалов. Углубление Малевича в естественнонаучные аспекты взаимоотношения человека с реальностью приносили выводы, делающие честь его эвристическому гению: «Природа, конечно, будет рассматриваема не иначе, как физическое действие, подтверждаемое осязаемостью как опытом реальным. Но возможно, что физические проявления опытом не доказуются. Раз мир явлений существует как представление, следовательно, то, что мы называем физическим, только будет представлением о неизвестном физическом действительном. Опыт физический уже результат мысли, а мысль всегда образна и предметна. По крайней мере, она стремится оформить и опыт, и представление и поэтому сочиняет предмет как свое представляемое оформление» (186—187). И в другом месте: «Все три <Наука, Религия, Искусство> искали всегда познаваемого предмета и по всякому его только представляли, и предполагали, и строили. В научном опыте проверяли подлинность представлений и предположений, но <так> как представления и предположения были опровергаемы восхождением новых предположений, <то> и установленные подлинности научного опыта разрушались, и предмет опять распадался, оказывался не подлинным. Опыт, возможно, не может быть доказательным потому, что всё, для опыта необходимое, и само испытуемое — простое будет представляемое, и сами средства не что иное, как представляемые средства, связанные с известным фактом и представлением. Сам физический прибор есть вымысел, но не подлинн<ость>» (211). Много позднее 1921—1922 годов, когда были написаны эти строки, ученые стали говорить о психологической погрешности физических приборов, придуманных, созданных людьми и должных экспериментально подтвердить теоретические выкладки. При формулировании теории соотношения неопределенностей Вернера Гейзенберга (1927), оказавшей решающее влияние на философию XX века, «снова выступила старая проблема детерминизма или индетерменизма, определяемости или неопределяемости всех явлений в мире через всеобщую причинную связь. Неопределенность, уловленная Гейзенбергом в формулы, — не означает ли она, что в малых масштабах природные процессы никогда не поддаются определению с абсолютной точностью, а всегда в ограниченных пределах совершаются свободно и стихийно, что, таким образом, закон причины и следствия утрачивает здесь свое значение? Сам Гейзенберг сопроводил свое соотношение неопределенностей учением о нарушениях в измеряемом объекте, производимым измерительными средствами и процессом измерения вообще, дав им каузальное объяснение»14. Теоретическая физика, как известно, в XX веке обогатилась конкурирующими теориями и моделями, существующими в пространстве умозрения; определение Гейзенбергом такого основополагающего феномена, как атом, по лексике аналогично суждениям Малевича о мировой подлинности: «Атому современной физики все качества чужды, непосредственно к нему не имеют отношения вообще какие бы то ни было материальные качества, то есть любой образ, который могла бы наша способность представления создать для атома, eo ipso <тем самым — лат.> ошибочен»15. Выше уже отмечалось, что создатель супрематизма интуитивно числил чистую Науку в союзниках Искусства по выходу к беспредметности. Сугубая самостоятельность Малевича в обращении с актуальными в его времена популярными идеями прослеживается на использовании понятия «относительность», «принцип относительности». Художник подходит к нему буквалистски, его не интересуют теоретические значения этого научного термина, очень быстро получившего вульгаризаторские расхожие трактовки. Малевич считает изобретение «относительности» уловкой разума, дарующего самому себе индульгенцию на ошибки и заблуждения: «Наука, как и все предметное практическое сознание общежития, существует потому, что есть принцип относительности. ... Принцип относительности есть чисто предметное вспомогательное средство. Оно было принято, заведомо зная, что мир вещей возможно познать только относительно, подлинно же познать никогда нельзя, ибо неизвестна та изолированная единица от всяких элементов» (135). Понятийный аппарат Малевича был самодельным и обытовленным, однако сквозь порой неуклюжие словесные конструкции пробивалась мысль поразительной глубины и отточенности: «Возможно, что таковые эпохи ложно оцениваются и потому уход их, возможно, что ложен, ведь всё оценивается через принцип относительный, и отношение одного проявления может быть отнесено к другому совершенно ошибочно, и тогда, таким образом, будет построено то колесо, которое и будет брошено в мировое пространство нашего прошлого; возможно, что даже будут сделаны точные математические доказательства того, что определенные ценности, заключаясь в своем кольце, больше не могут влиять и быть преемственными». Выделение в этом пассаже не принадлежит автору, вообще зачеркнувшему — то есть выбросившему — весь абзац из текста. Малевич оказался прав в том, что «будут сделаны точные математические доказательства» — в 1931 году австрийским математиком Куртом Гёделем была доказана так называемая теорема о неполноте дедуктивных систем. В соответствии с доказательствами Гёделя — система либо непротиворечива, либо неполна. «Из результатов Гёделя ... следует так же, что никакое строго фиксированное расширение аксиом этой системы не может сделать ее полной, — всегда найдутся новые истины, не выразимые ее средствами, но невыводимые из нее»16. При всем неизбежном огрублении и упрощении, — язык Малевича никак не может претендовать на какую бы то ни было строгость или понятийную выверенность, — его мысль о «кольце», то есть системе, «ценности»-аксиомы которого «больше не могут влиять» и «быть преемственными», — работала в том же направлении, нащупывая важнейшие закономерности, причем носитель мысли уверенно предполагал, что математика когда-нибудь докажет ее справедливость (конституционное для логика-иррационалиста противоречие — одновременное отрицание и утверждение возможностей науки). Строго математическая теорема Гёделя, классифицируемая специалистами как метатеорема, свидетельствовала о невозможности полной формализации научного знания; философия XX века сделала из нее необходимый для себя вывод о том, что человеческое мышление шире его дедуктивных форм. Для супрематиста-автодидакта, чье миросложение (авторский неологизм) первоначально складывалось из зрительных феноменов, недостаточность дедуктивных форм была персональной и интуитивно выработанной аксиомой; критика узурпации «представлениями» власти над Природой и произвольной условности этих представлений занимает у него страницы и страницы. Сознание закрепощает явление в представление, дает ему имя, которым затем манипулирует по своему усмотрению: «Чтобы создать реальный мир, общежитие дало неизвестному имя и [тем] сделало неизвестное реальным. ... Будет ли имя реальной подлинностью? Мне кажется, что нет. ... Отсюда и возникает человеческая жизнь строящихся на условиях имен, другой реальности общежитие не может иметь (в действительности существует другая реальность, скрытая по-за сознанием)» (208); «Сознание его <человека> не может <взаимо>действовать с неизвестным, тогда он прибегает к условным именам и под именем разумеет то или иное состояние» (156). В восстании беспредметника против именовательного потенциала слова, восстании против слова как демиурга присутствует претворенное богоборчество, тем самым обнаруживая подспудное влияние библейского дискурса. Не менее существенным представляется здесь неосознанный отклик на обсуждение одной из новорожденных метафизических проблем: «философия имени» с начала 1910-х годов была одной из самых продуктивных, самостоятельных и органичных тем отечественной религиозно-философской мысли; в ее разработке, как известно, приняли участие С.Н. Булгаков, П.А. Флоренский, впоследствии А.Ф. Лосев. У Малевича, тесно связанного с М.О. Гершензоном (см. ниже), были возможности уловить в воздухе эпохи отголоски этой богословской дискуссии; он, как и в случае с названием шопенгауэровского труда, фиксирует свое внимание на емком смысле самой формулировки проблемы и, невзирая на ее происхождение и смысл, основывает собственные спекуляции, исходя из содержания, самостоятельно вкладываемого в чужую формулировку. Вместе с тем в малевичевской дезавуации имени (слова) как «неподлинности» нельзя не отметить начатки столь актуальной во второй половине XX века борьбы деконструктивистов с тотальной вербализацией культуры, своей самодостаточностью подменяющей и отменяющей реальность. В ведении Науки на протяжении большей части трактата находится техника. Их взаимоотношения примечательны противоречивой (иногда стихийно диалектической) взаимодополняемостью. Наука, по Малевичу, стремится все разъединить, используя анализ; техника — напротив, все соединить, произведя синтез разъятых элементов: «Для Науки всё является предметом преодоления, растворения явлений на части; для техники — построение частей, соединение преодоленных Наукой различий...» (108). Техника, как известно, была культом футуристов, кумиром недавнего прошлого; техника становилась культом производственников-конструктивистов, кумиром настоящего. И те и другие относились к ней сугубо прагматически. Бывший футурист Малевич, непримиримый противник конструктивистов, производит «дес-конструкцию» (авторский термин) этой потребительской парадигмы, вскрывая метафизический смысл техники. Мегаконцепт XX века — машина — и для былого футуриста суть и воплощение техники. С ней в трактате происходят замечательные метаморфозы: именно в машине достигается тот идеал «безвесия», который, по Малевичу, есть главный земной путь к беспредметности: редуцирование веса, без-весие — инструмент достижения без-предметности. Инженер, конструирующий машину, конструирует механизм (=явление), где нет веса, все уравновешено в целостности; согласно супрематической теории, появление веса в какой-нибудь детали, элементе означает его выпадение из равно-весия и разрушение машины; в качестве сравнения привлекается Machina mundi — Солнечная система, где все детали без-весны, ибо если бы у Венеры или Луны появился вес, то они выпали бы из единства и слитности. В ареале значений этой еще одной супрематической категории — оставляя в стороне ее архаически-наивную механистичность — находятся и груз, и тяжесть, и тяготение; те феномены, что выражены в данных приблизительно синонимичных понятиях, обладают динамикой, однозначно ориентированы в пространстве, причем вектор их движения направлен сверху вниз. Библейский дискурс греховности, появления веса как результата отпадения и падения, не раз отчетливо проступает в трактате Малевича. Человек, ослепленный борьбой за существование, самонадеянно считает, что технику он конструирует для обслуживания своих «харчевых потребностей», что она чисто утилитарное и вспомогательное средство. Изобретенные же технические средства на самом деле изобличают условность — неподлинность — понятий пространства и времени и демонстрируют своей «без-весной» организацией истинный смысл: «...автомобили несут предметное сознание человека не в будущее, а в беспредметность» (145). Риторический вопрос вызывает у супрематиста изобретение летательных аппаратов: «Что это — технические харчевые удобства благ или же это всё технические усилия достигнуть борта земного движения и броситься с него в мрак бесконечности?» (260). Слитность, единство, без-весие — предикаты супрематической беспредметности; Малевич полагает, что машина в сути своей так же инструмент трансценденции, освобождения Ничто. Понимание техники как вспоможения человечеству в его высшей устремленности было свойственно не одному Малевичу; в письме Гершензона Вячеславу Иванову возникает образ, аналогичный образам Малевича: «Человек создает аэроплан, думая только о технической его полезности: буду быстро перелетать и посылать биржевые известия из Нью-Йорка в Чикаго; и не знает того, что дух побуждает его строить крылья вовсе не для земных его целей, а как раз для того, чтобы ему оторваться от земли и воспарить над нею; что уже тайно созрела в нем мечта и вера о вознесении в иные миры и что аэроплан — только слабое начало осуществления этой мечты, уже окрепшей в нем и уверенной: дай срок, некогда взлечу навеки и бесследно утону в эфире!»17 Метафизической подоплеке «вопроса о технике» в бытии человека будут посвящены впоследствии размышления Мартина Хайдеггера18. Сопряжение онтологического горизонта бытия и сугубо злободневной актуальности — одна из органичных особенностей беспредметного учения Малевича. В его картине мироздания существуют не только естественноприродные феномены, но и феномены социальные. Государство, Международное начало, Социализм так же действующие лица супрематического мифологического пантеона, правящие жизнью общежития. Воззрения на общество у Малевича были наиболее близки воззрениям анархистов, с которыми он впрямую сотрудничал в 1918 году19. К Государству анархист Малевич испытывает стойкую неприязнь — Государство для него всегда однозначно машина подавления, агрессии. Оно подчиняет себе и Науку, и Религию, и Искусство, насильно включая их в реализацию своего проекта: «Всё же до сего времени существующее единство трех — простое насилие, искусственное соединение... харчевого экономизма Государств; <это> искусственное примирение духа религиозного и материи и Искусства как красоты, временное соглашение, развитие общего чисто материалистического практического здания» (87). Эмансипация Науки, Религии, Искусства от Государства видится автору первейшим условием для их самоопределения: «Когда все три пути осознают свою независимость, освободятся от диктатуры харчевой Государства и познают единую сущность всех трех путей, тогда наступит мировое познание, мир будет познан как беспредметный» (87). Однако логические рассуждения приводят супрематиста к выводу, что Государство так же тяготеет к беспредметности, поскольку она обладает такими позитивными характеристиками, как целостность, слитность, единство, равенство. И здесь опять можно наблюдать одно из замечательных противоречий, которыми столь богат трактат. Логически умозаключив о положительном стремлении Государства к «соборности» (Малевич этимологизирует это понятие славянофильски-символистского дискурса, подчеркивая аспект «сборности»), он с неизбежностью фиксирует, что Государство на пути к идеалу делает из людей однородную массу, «слитную», «единую», «равноправную»; в будущем, как известно, этот тип государства получит название тоталитарного. В трактате появляются афоризмы, в свете исторического знания обладающие рангом пророчества: «Для Социализма люди — средства, через которые установить можно Социализм, а не обратно» (247); «...личность Социалиста будет торжествовать, ибо само преодоление — его свобода, этой свободе подчинены все остальные профессии и силы в Социалистическом Государстве» (248). Следует, однако, заметить, что этическая оценка не входит в намерения автора, и выводы, вытекающие из логики вещей, носят у него отстраненно-объективистский характер. Социализм — это высшая ступень Государства: «Идея Социализма заключается в самом высоком пределе человеческого предметного научного практического реализма» (136). Реализм же этот рассчитан на удовлетворение «харчевых потребностей». У Малевича «материальное тело» пригибает человека, держит его на низшем, животном уровне. Дуализм тела и духа безусловно должен быть разрешен в пользу духа, считает автор, ибо только в нем может быть осуществим «план человека». У Социализма же совсем другие воззрения: «Мир для Социализма практическое производственное харчевое начало. К этому на вид естественному усилию шли все идеи, и только исключением будет Искусство». В дальнейшем положение о враждебности Социализма Искусству будет развито Малевичем — и, как обычно, к этому выводу его приведет логика (иррационалиста Малевича никогда не смущало, что его логические выводы подтверждаются реальностью). Радикальное «редуцирование» Церкви, свидетелем чего ему пришлось быть, наталкивает художника на мысль о «редуцировании» Искусства в Социализме, — это все тоже шаги по дороге к единству, элиминированию множественности путей при движении к соборности. Особо следует отметить антиутопичность социально-общественных идей Малевича-философа20; принципиально антипрогрессистское мировоззрение заставляло его резко протестовать против идеологии и культивирования «Будущего как предметной надежды», которые практиковались «вождями предметного блага» («Предметный материальный мир — идеальное будущее, и этого достаточно, чтобы воздвигнуть и проволочный кол, и пушку, и меч, и газ во имя будущего идеального материального.... Так, ни один вождь не провел народ мимо орудий к благу, потому что его нет, его нужно сделать, хотя всегда указует место будущего как блага; его указующий палец вечно направлен на меч и горло пушки. Там по-за ним<и> лежит то, чего хотите, там будущее, в нем и ваша идеальная жизнь, преодолейте пушки!!»21, 183). Используя современные понятия, антропологический проект Малевича, предполагавший реализацию истинного «плана человека», коренился совсем в другой природе и подключался к традициям, имеющим основания в христианской культуре, о чем ниже. Первая часть трактата самая обширная, многотемная. Ее название «Супрематизм как чистое познание» было проставлено, как уже говорилось, автором позднее. Гносеологическая функция супрематизма заключалась в том, чтобы правильно ориентировать познание действительности; познанием в данном случае именовалась логическая операция по обнаружению беспредметности (освобождению Ничто) в Науке, Религии, Искусстве: «Устанавливая беспредметность, думаю проследить все три движения и найти в их сути [беспредметное]» (98). Малевич отнюдь не был первым мыслителем, абсолютизировавшим свою истину и свой путь. Он сам в своей собственной жизни осуществил прорыв к трансценденции, вышел к беспредметности, в онтологическое измерение бытия. Свое предназначение пророк супрематизма видел в том, чтобы побудить общежитие к этому прорыву, воочию явив ему мировую подлинность, освобожденное Ничто. К концу первой части Малевич полагал, что сумел доказать свою истину и тем самым инициировать отрезвление заблуждающегося человечества: «Итак, всё предметное сознание находится во сне представления и предположения. Так же во сне всё человечество бежит через творящееся в его представлениях пространство, время, экономию, разум, рассудок, смысл, логику, знание, ищет Бога и Будущего, ищет совершенства бытия, ищет подлинности. А когда наступит пробуждение, то окажется, что он находится в подлинном беспредметном, а мир как представление, как разум и воля исчезли как туман» (215—216). Через десять с лишним лет в его постсупрематической живописи появится трагический образ бесплотного, безлицего старика, бегущего мимо меча, креста, тюремного здания22. Надежды на пробуждение в этой картине нет. Но в 1921—1922 годах в Витебске у Малевича было полно иллюзий. Декларацией акта свершившегося уже установления «белого мира как Супрематической беспредметности» — то есть раскрытия подлинности бытия через супрематизм — завершается первая часть сочинения. * * * Вторая часть трактата под общим заголовком «Супрематизм как беспредметность» (с зачеркнутым продолжением «или Живописная сущность») составляет примерно половину первой; она в свою очередь делится на две главы, обе без названий. Уточняющие слова вычеркнуты автором были неслучайно. Во второй части много рассуждений о приходе живописи к беспредметности, то есть выявлении «живописной сущности», однако они не превалируют, а тесно увязаны с дальнейшим углублением в онтологические проблемы. Главная идея, беспредметность, все время возвращается как лейтмотив, Малевич подбирает новые сравнения и примеры, его мысль не успокаивается, хотя и кружит вокруг одного и того же: «Во второй части моего рассуждения о беспредметности будет темой всё один и тот же вопрос, другими, может быть, словами рассказанный, о том, что было сказано в первой части» (218). В начальных параграфах, продолжая квазисистематизацию супрематической теории, художник оперирует бинарными и троичными системами; следует отметить, что взаимоотношения между ними иногда трудноуловимы в силу грамматических несогласованностей в предложениях, правленных автором позднее, но все же главные структурирующие положения, проговариваемые неоднократно, ясны. Ведущей темой становится строение мироздания, его иерархическая ступенчатость. Триада и здесь прием структурирования, поскольку, по Малевичу, этих ступеней три: возбуждение, мысль и эмпирика. Возбуждение — субстанциальное монистическое начало, всеобъемлющий динамический покой, целостность которого едина и неделима; это Ничто, в котором присутствует Всё. В трактате снова и снова выстраиваются ряды негативных определений, отсекающие любую попытку закрепостить энергийную беспредметность Ничто. Вторая ступень в устройстве мироздания — мысль, по которой возбуждение нисходит вниз; теория эманации в скрытом виде формирует иерархическое членение супрематической картины бытия. Как обычно у Малевича, дефиниция «мысль» укоренена в обширном семантическом поле; с мыслью коррелируют разум, рассудок, суждение, представление; мысль то синонимично сопряжена с сознанием, то разведена с ним, и тогда сознание получает статус субъекта мысли. Некоторые философские интуиции художника своей глубиной лишний раз подтверждают отпущенную ему судьбой чуткую восприимчивость: «Природа раскрыта, и человек как бы находится внутри ее возбуждения, однако не может достигнуть действительности. ... всё то, что производит человек, есть производство суждений о натуре как познание воздействий. ... Природа открыта в каждом месте, но скрыта в бесконечности суждений» (221). Одномоментная явленность и сокрытость мира — фундамент феноменологических спекуляций интеллектуалов XX века; для русского супрематиста несомненно, что мир (Вселенная, Природа), в которую человек погружен, достоверен и нагляден в своей открытости, — но смысл и форму он обретает в результате интенциональной направленности мысли («подлинность мира зависит от воззрения на него, вне этого как бы ее нет», 251). Бытие, по теории Малевича, возникает в горизонте сознания («в возбуждении нет сознания, а бытие сознание», 233). Однако в других — близлежащих — пассажах мысль, суждение далеко не адекватны бытию («Весь видимый мир не есть бытие, он только суждение, вторая ступень возбуждения», 233). Мысль энергетически соприродна возбуждению, но она так же и инструмент опредмечивания (овеществления, оплотнения, охлаждения) раскаленного беспредметного возбуждения; мысль «стремится к выявлению возбуждения в форму, творя беспредметную и предметную жизнь» (219), то есть наличие интенции кардинально отличает ее от возбуждения. Именно мысль (сознание) ответственна за возникновение дуализма в мире. Малевич-философ — человек прежде всего зрительного, пластического восприятия мира, и в его текстах самые отвлеченные категории обзаводятся двойниками, наделенными подчас разительной конкретно-чувственной образностью. Так, «сознание» человека претворено в телесную форму «черепа» с натуралистической «костяной стеной»; таким образом «череп» превращается в своеобразный дом мысли. Он будет вместилищем всех космических метаморфоз, в нем будут происходить угасания-зарождения — мерцания — Вселенной, а возможности мысли будут превосходить предельные физические свойства мира, поскольку в «черепе» может быть помышлена скорость большая, чем скорость света. «Череп Вселенной», метаобраз Велимира Хлебникова, отбрасывает рефлексы на аналогии Малевича. Вместе с тем в супрематической философии нет места гармонии математических построений-пророчеств, столь занимавших Хлебникова. Мировая подлинность, возбуждение, мыслится в супрематизме бесконечной, однако ни в коем случае не количественно, поскольку она не множество, а единство. Предметом же вычислений, полагал Малевич, являются чисто количественные отношения, и поэтому «вычисления» не раз квалифицировались им как попытки разума проникнуть в без-разумность неделимой без-предметности. Природа, раскрытая навстречу сознанию, множественна в своих феноменах; концентрация на этом обстоятельстве приводит Малевича к новому утверждению, отождествляющему Природу с мыслью, то есть объявляющее ее гнозисом: «...вся природа есть мысль, а все явления — формы разгаданных, представляемых в мысли причин; тогда в природе существует разум и мысль как ничто руководящее, направляющее то, в чем нет последнего, друго<е> ничто, которое может быть названо материей, которая может оказаться в одно и то же время и мыслью, и разумом. Натура отсюда сложение мысли, и всякое сложение в ней — мысль» (220). Природа-мысль наделяется собственной интенцией, в результате чего возникают оплотненные в форму все ее проявления. Это лишь на первый взгляд противоречит главному посылу Малевича-пантеиста, абсолютной без-предметности единой и цельной Природы, поскольку сложением «форм представляемых в мысли причин» руководит Ничто, — таким образом, разгадывание человеком этих помыслов и приводит к освобождению Ничто. Третий и самый низший уровень мироздания, эмпирика, включает в себя всю «фактическую жизнь». По сути дела, эмпирика, будучи олицетворенной в фигурах Науки, Церкви, Искусства, составляла тему рассуждений и анализа в первой части трактата; Малевич и в дальнейшем опирается на эти супрематические мифологемы. В реальности общежития — в горизонте человеческого сознания — трехступенчатость всеохватного вездесущего возбуждения интерферирует с двумирностью, внутренним и внешним состоянием. Вещи, предметы относятся к внешнему слою, однако они как результаты интенции мысли увязаны с внутренней жизнью человека. Предметы — охлажденное сознанием возбуждение — тем не менее никогда не могут претендовать на адекватность мысли, поскольку в качестве внутреннего состояния человека мысль целостна и нераздельна, как и возбуждение, а предметы фрагментарны и конечны. Внутренним состоянием человек, по мнению автора, дорожит больше всего на свете; здесь аксиология Малевича совпадает с христианской аксиологией. Практическая действительность так же разделяется на два русла. В одном функционируют явления и предметы, обусловленные практической необходимостью, они обслуживают человека; в другом, по формулировке Малевича — «постройке нового миросложения немеханического порядка (последняя беспредметная)» (218) — доминирует дух, и здесь уже человек должен приспособлять себя к нему. Мифо-онтология «первофилософа» Малевича с неизбежностью принимает космогонические формы, сосредоточивается на исследовании вечной проблемы взаимоотношений, взаимосоотнесенности Вселенной (макромира) и человека (микромира). Подразумеваемое художником устройство Вселенной входит существенной конструктивной основой в супрематическую картину мира. Его космология, не раз внедренная более поздними вставками и приписками в первую часть трактата, во втором разделе размещается в собственных параграфах. Следует отметить, что в теоретических текстах родоначальника супрематизма органично находили выражение его личные страстные увлечения — таким увлечением было наблюдение небесных светил в карманный телескоп23; описывая Гершензону свои впечатления от астрономических сеансов в Витебске (см. наст, изд., с. 343), он не в силах был удержаться от восторга и оттого иронизировал сам над собой. Известная метафора «философия родилась из созерцания звездного неба» в случае Малевича видится не метафорой, а констатацией факта биографии. В астрономии он ценил прежде всего природоестественную наглядную форму. Слово «гармония» редкий гость в его трактате; оно появляется в окрестностях астрономического дискурса. Термины «перигелий» (самая близкая точка орбиты) и «афелий» (самая удаленная точка орбиты) с витебских времен начинают функционировать в лексике Малевича на правах терминов с художественным смыслом; впоследствии в Петрограде он придумает астрономические неологизмы, «планиты» и «земляниты». Уверенно обличая «несмыслы» научного прогресса, сам Малевич столь же уверенно абсолютизирует наличный на начало XX века взгляд на космос как механистическую систему. Его конструкция Вселенной возводится к ньютоновской космологической картине мира: «Космос, или Вселенная, мне представляется бесчисленностью сил вращательных центров или возбуждений. Все образующиеся кольца не представляют собой отдельные системы, а находятся во взаимном включении» (229). Геометрическая схема «взаимных включений» кольцевых орбит превратится в матрицу многих квазинаучных таблиц и графиков — настоящих артефактов Малевича, призванных придать убедительность, строгость теоретическим конструкциям. Орбитальная схема Солнечной системы ляжет в основу «научного графика», озаглавленного «Состояние живописи в 1924 году»24; по ее модели построены «График движения творческих единиц в бесконечности», «График всего движущегося...» (два последних см. в наст. изд.). Значимость и формульность предполагаемого механического устройства космоса Малевич распространит на многие феномены, геометрически-наглядным образом утверждая их единство: «Маленькое подобие этой единой связи отвлеченных динамических явлений мы имеем в развитой человеческой жизни, которая тоже исходит из центрального движения. На Земле так же существуют центры возбуждений, образующие ряд колец или единичных систем. Каждая система тесно включается в соседние кольца возбуждений...» (229).
Провидческое постижение супрематистом космогонических теорий, ставших уделом человечества к концу XX века, проявилось не в создании моделей и графиков «взаимного включения орбит», а на уровне интуитивного образа «мерцающей Вселенной», со «всеми ее зарождениями и угасаниями»25. Человеческая культура, полагал Малевич, в пределе должна слиться со вселенским возбуждением, и такой будущий путь уже предъявлен в уделе астрономов: «К этим воздействиям отвлеченных явлений должна двинуться культура человека, подобно астроному, проглядывающему через телескоп явления, вводя в себя явления Ориона, Альтамира, Альдебарана; соединяя с собою путь к ним в несколько биллионов верст, его существо бежит в его сознании» (227). Рассуждение о введении астрономом в себя созвездий весьма симптоматично; это чувственно-опосредованное расширение собственной личности до пределов Вселенной — и включение Вселенной в себя — одна из постоянных и сущностных характеристик мистической трансценденции. Индивидуальная всеслиянность со вселенским возбуждением, не раз пережитая Малевичем, упраздняла пространство и время, сворачивала их, порождала всеобъемлющее ощущение сенсуалистического познания истины мира: «...знание — преграда жизни в буре возбуждения. Никакое знание не сможет поднять сердце в его динамических ударах <так>, как возбуждение; ничто не сможет органически слить, перенести нас так высоко, как возбуждение. Возбуждение является единством моим с вселенной бесконечностью» (240). Наблюдения звездного неба в Витебске, сопутствующие написанию трактата, утвердят Малевича в мысли о человеке как необходимой форме проявления вселенского возбуждения: «Человек тоже космическая возбужденность, проясняющая себя через мысль...» (228). Смысл появления человека во Вселенной выражен Малевичем со всей определенностью: в человеческом сознании Вселенная обретает возможность самоосознать подлинность, истинность; в своем восхождении (превосхождении, супрематии) мысль как внутренняя энергия способна полностью раствориться в первоначальном возбуждении Вселенной. Через свой внутренний опыт супрематист-мистик приходит к убеждению, что нельзя определить, кто кого помыслил, — Вселенная помыслила человека или человек помыслил Вселенную; границы субъекта-объекта исчезают; забегая вперед, следует отметить, что в третьей главе трактата трансцендентальный солипсизм Малевича выльется в пассионарные пассажи. Анализ ипостаси человека как формы вселенского возбуждения заставляет автора сделать новое парадоксальное умозаключение. Поскольку возбуждение без-предметно, без-лично, без-форменно, то и проясненная через мысль вселенская сущность совсем не обязательно должна быть антропоморфной. Существо человека как самопрояснение (самопонимание) первоначала мира необходимо считать «...обязательным для Вселенной, для всех ее зарождений и угасаний, но этому существу не вменяется в обязательное быть двуногим, с головой, руками, носом, глазами и всепожирающим желудком» (236). Дух — главная человеческая сущность, а тело лишь его случайная земная оболочка; в этом положении несомненно наличествует определенная перекличка с христианским представлением о «телесной темнице». Малевич-философ, озабоченный целостностью супрематизма, упирается в необходимость соотнести монистическое начало, возбуждение, с дуализмом человеческой природы. Выход он находит в том, чтобы объявить возникновение оппозиции духа и тела спонтанным следствием динамики возбуждения: «Два или три начала человека, с моей точки зрения, — сочиненные начала; в действительности существует одно начало — возбуждение или трепетная энергия вне различий. Но предполагаю, что в действии своем возбуждение как начало распадается в понятии на два — первое то, что мы называем духом, и второе то, что называем материей, или наоборот» (251). Дуализм, находящий выражение в различных бинарных оппозициях трактата (внутреннее и внешнее, дух и материя, человек и животное, духовное и «харчевое» начало и т.д.), положен так же в основу новых социально-общественных аспектов супрематического учения, поскольку принятая иерархия животного и человеческого начала дает Малевичу возможность конструировать концепции наличной и будущей истории. Неосознанные культурные коды — традиционное для гностицизма противопоставление материи и духа, безусловная абсолютная ценность духа в христианстве, — оказывают неукоснительное подспудное влияние на историософские спекуляции супрематиста. «Существу человека еще долго предстоит пробираться через признаки животного», — провозглашает Малевич; эти признаки, формулируемые в целом как борьба за существование (эхо эволюционной теории Дарвина), заставляют человека заниматься самоистреблением, самоизбиением, самоограблением в надежде достигнуть предметного блага, сытости; в этом суть всей истории человечества. На протяжении второго раздела несколько меняются акценты в отношении Социализма; современная реальность убеждает мыслителя в необходимости искать «форму общежития», в которой осуществилась бы власть духа («...так как дух не может проявиться без формы общежития, то искать эту форму необходимо», 252). Он примеряет к Социализму функцию полного удовлетворения животного начала: когда с помощью Социализма «будет завершена человеческая техника как предмет», тогда возникнет новый человек, «мышление которого будет направлено в беспредметное» (241). В отношении к Социализму как ступени к будущему царству духа помимо отзвуков «марксистского богостроительства» неизбежно слышны отголоски тривиальной большевистской пропаганды, влиявшей на собственное наличное бытие профессора Витебского Народного художественного училища. Противоречивость положений и утверждений Малевича, его неравность самому себе, несовпадение с самим собой — следствие процессуального характера его текстов, думания одновременно с писанием. Вместе с тем его мысль, цепко держащая на прицеле беспредметность, парадоксальным образом сводит противоречивость положений к единому знаменателю. Да, Социализм — высшая ступень государственного устройства; да, Социализм упраздняет (редуцирует волевым актом) Церковь и Искусство, вбирая их в себя; да, личность Социалиста подчиняет себе всё и вся. Однако всё это шаги по пути к беспредметности, и Малевич призван объяснить Социалисту, в чем его собственная (Социалиста) истина и как идти к этой истине. Истина же в том, что Социализм и Социалист неосознанно стремятся к единству всего человечества — «и видят путь достижения его через уничтожение отдельных Государств — уничтожения наций, отечеств, уничтожения раздробленного человека на разные состояния, мешающие ему видеть и познать свое «Я» во всечеловеке, во всенароде как едином нераспыленном «Я» (265; в терминах и определениях Малевича «мерцает» дискурс русской философской традиции всеединства). В трактате появляются «организмы Международного бытия», «Международный план» — в их инверсированных метафорических обликах проступает современный Малевичу Коммунистический Интернационал, который в преддверии мировой революции, объявленной большевиками, собирался на свои конгрессы практически ежегодно в советской России. Национальные проблемы Малевич транспонирует в особую социально-общественную астрономию — с замечательным логико-лингвистическим рассуждением о Международном центре как Солнце для наций-планет и выводом: «Но если предположить, что все планеты произошли из одной системы Солнца, то очевидно тогда, что ни одна планета не национальна Солнцу. Так же если все нации произошли из Международной системы, то очевидно, что и они не национальны последнему. Итак, национальность отсюда — грубая ошибка, логическое недоразумение, приносящее неимоверные затруднения в организации Международной системы» (274). Искусство — единственная, по Малевичу, фигура, способная после достижения животного насыщения консолидировать человечество для реализации «плана человека». Церковь погрязла в конфессиональных распрях, в Науке — неимоверная раздробленность специализаций (примечательна одна из импровизационно возникших малевичевских гипотез-идей о возможном пути достижения единства через Науку, когда каждый землянин будет специализироваться по какой-нибудь одной узкой специальности, а все вместе составят единое существо «всечеловека», адекватное Природе). Супрематическая беспредметность — это прежде всего живописная беспредметность; соприродность Искусства как такового мировой подлинности заключается в том, что оно изначально интуитивно, не дискурсивно: «Искусство тем отличается от жизни рассудительной, что оно через себя проводит возбуждение, но не суждения» (233). В живописном супрематизме давно разработан проект «мирореализации»: «Беспредметный Супрематизм мыслит таковую культуру как мир возбуждений, реализованный через его систему явлений. Система цветная, черная и белая станет дорогой человека, строго его отделяя от культуры харчевого возбуждения» (233). «Белый квадрат» объявляется Малевичем ключом-знаком сведения всей культуры к «белому внекультурному действию»; следует обратить внимание, что речь здесь идет не столько о картине «Белый квадрат на белом фоне», сколько о концепции, о чистой идее. В беспредметной живописи достигнуто зримое воплощение мировой истины: «Супрематизм как белая природа, как новое восхождение — возбуждение вне культуры» (240). Восприятие такой самоидеи (авторское слово) Искусства обеспечит, по Малевичу, изменение сознания общежития, трансценденцию общества и возникновение «нового человека»26. Но и в действительности уже существует объединение людей, в которых родоначальник супрематизма прозревает прообраз будущего всечеловека. Этот идеал малевичевской концепции человеческой истории (вербально соотносящийся с неведомым ему идеалом историко-философских спекуляций русских философов всеединства) отбрасывает рефлексы на его рассуждения о взаимоотношениях личности и коллектива; последнему отдается предпочтение, поскольку коллектив — эскиз всечеловека. «Коллективы — маленькие авангарды», — пишет автор, и некие коллективы, не называемые им, уже возникли на Земле и трудятся над реализацией истинного проекта человека: «Итак, борьба за человеческий образ, за человеческую культуру происходит небольшими группами человеков в большой опасности перед человеком-животным. Эти группы я называю Супрематическими, став<ящими> себе за первенство достижение человеческого мира. И мир этот будет беспредметным...» (265). Как известно, именем этих «супрематических групп человеков» был Уновис (Утвердители нового искусства). * * * Приступая к третьему разделу, Малевич концентрируется поначалу на тех же утверждениях и рассуждениях, что уже были разработаны во втором; нередко встречаются дословные повторения некоторых положений, прописанных ранее. Речь вновь идет о субстанции мира, возбуждении, причем формулировка идентична прежней. Но уже в определении мысли звучат другие акценты: мысль лишается функции опредмечивания возбуждения — и объявляется «только одним из процессов действия непознаваемого возбуждения». Радикально новое положение появляется в параграфе 13. Оговаривая, что это точка зрения общежития на устройство мира, Малевич эксплицирует понятие «совершенство Вселенной», концентрацией которого становится Бог. Вся последняя глава трактата — своеобразная интерференция от наложения теории беспредметности на идею Бога как совершенства Вселенной. Категория «совершенство» находится в прямом противоречии с прежними рассуждениями супрематиста. Во-первых, совершенство плохо согласуется с отрицанием идеи прогресса. Во-вторых, за совершенством Малевич числил ранее такие феномены, как граничность, статика, абсолют, то есть нечто замкнутое, конечное, следовательно, неподлинное. Мыслитель-иррационалист оставляет эти несоответствия без внимания, равно как и антиномию двух одновременных посылок: подчеркивая, что идея Бога как совершенства была продуцирована самим человеком (общежитием), он в то же время утверждает, что все явления в природе говорят человеку своим совершенством, что Вселенная — Бог. Библейский креационизм и библейское грехопадение — архетипы рассуждений Малевича. Бог из ничего создал мир и человека; согласившись с этой общежитейской верой, Малевич делает вывод: «Бог не мог больше творить, ибо построил совершенство, выше которого нет. Сотворив мир, он ушел в состояние «немыслия», или в ничто покоя» (310). Деистические воззрения, к которым стихийно подключается русский философ, числили многих выдающихся мыслителей в рядах своих сторонников, среди них Ньютона и Лейбница. В деизме интеллектуалам обеспечивалась исторически-общественная свобода, поскольку постулировалось, что Бог-абсолют не может быть ответственным за несовершенство деяний и судеб сотворенного им человека; отсюда следовало, что Бог участия в человеке и земных событиях не принимает. Малевич признается, что ему совсем непонятно, почему человек не был удовлетворен абсолютом: «Мне не представляется, как он вышел, выключил себя из общего абсолютного совершенства и почему ему стала необходимость мыслить, раз всё уже было в абсолюте» (290). Однако для него несомненно, что ответственность за это несет мысль, сознание; астрономическая метафорика и здесь способ наглядной демонстрации грехопадения: человек «един<ственн>ый стал устремляться к познанию природы как Бога совершенств ... как будто какая-то неосторожность случилась, как будто соскользнул и выскочил за борт абсолюта. И таким образом он как частица абсолютной мысли, вышедшая из общей орбиты движущегося абсолюта, стремится теперь включить себя в орбиту» (290). Истинность супрематической теории художник уже утвердил, удалив Бога на покой, то есть в беспредметность, после творения мира. Однако ему необходимо увязать с ней и стремление к совершенству, главную движущую силу всей истории человечества. Малевич выдвигает новый аспект своих идей: человек, ошибочно понимая собственную природу как двойственную, с целью достичь идеал построил Церковь и Фабрику (Искусство в последней главе играет несколько иную роль, нежели раньше). Церковь заботится о духовном совершенстве, Фабрика — о предметном. В рассуждениях Малевича о Церкви происходят изменения, поскольку он говорит не об эмпирической церкви, а о религиозной идее. Теперь он смотрит на Церковь (Религию) с точки зрения идеальной веры, поверх конфессиональных барьеров, и полагает, что Бог как совершенство един для всего человечества: «По-разному народы его рисуют, но как бы ни рисовали, все представления сходятся в том, что Бог совершенство. Определение Бога как совершенства — абсолютное совершенство» (294). Фабрика, ипостась практической Науки, видит свою задачу в достижении материального совершенства, производя для этого орудия и инструменты. Церковь и Фабрика на уровне эмпирической реальности отрицают друг друга, одна желает возвысить дух, другая — тело. Беспредметник же свою задачу видит в том, чтобы доказать обеим, что, по сути, каждая из них идет к Богу. Малевич проводит аналогии — все они имеют ярко выраженный актуальный подтекст — между «обрядами» Церкви и Фабрики, основывая на них доказательства, что обе «деятельницы» супрематической мифо-философии устремлены к одному и тому же («Вообще же перед обоими миропониманиями стоит все та же беспредметность», 302). По его мнению, Фабрика так же ориентирована на метафизическую цель и только «готовит новое тело для человека как духовной силы» (309). Искусство в последней главе приобретает иные коннотации: оно здесь не модель беспредметности, а самодостаточная красота, в которой олицетворяется гармония Бога как совершенства. Красоту Искусства эксплуатируют и Церковь, и Фабрика, каждая в своих интересах. Необходимо заметить, что «красота» в положительном смысле — редчайший гость в лексике Малевича, с футуристической молодости ополчавшегося на «мещанские» эстетические ценности. Антропологический проект супрематизма представлен в последней главе со всей определенностью; его утопичность лишена какой бы то ни было социальной окраски. Ставя целью достигнуть идеальный абсолют, человечество поначалу должно прийдти к «плану человека», духовному существу, победившему в себе животное, потом устремиться к Богу, то есть к Ничто, в котором пребывает Бог. Человек в пределе должен достичь Ничто и преобразиться в Бога: «Итак, Вселенная — безумие освобожденного Бога, скрывшегося в покое. Тоже человек, достигший совершенства, освободится от своего безумия, станет Богом» (304; примечательны в этих фразах два полярных значения одного и того же слова «безумие»). Пока существует человечество, Бог не скинут и никогда не будет скинут. Ибо Бог — представление самого человека: «Итак, нет ничего удивительного, что Бог построил из ничего Вселенную, — так же как и человек строит всё из ничего своего представления и <из> то<го>, что представилось ему. Не знает, что есть сам творец сего и сотворил Бога тоже как представление свое» (311). Искусство у художника Малевича уже воплотило идею Бога как совершенства, поскольку в нем достигнута красота, гармония. Гармония выявляется через ритм; ритм, проистекающий из мировой подлинности, выражает вселенский закон, и самая большая трудность — суметь передать его как можно более адекватно («Ритм возбуждения является главным действием... Вся трудность Искусства в том, чтобы в известном поле вложить знак по ритму возбуждения. Ритм, если возможно сказать, — один закон, на котором должны быть построены все человеческие проявления ... Закон ритма, а вернее, беззаконье в смысле его неизмеримости силы, расширяет человеческие проявления до космических возбуждений», 319). Ритм прямым и непосредственным образом выявляет субстанциальное первоначало и в сознании, и в эмпирической реальности. Спаяв все ритмом, Малевич достигает искомых единства и цельности мира как беспредметности. В трансцендентальном Ничто нет ни совершенства, ни несовершенства; тело и дух — два плана проявления единого возбуждения; материальное и идеальное неоднократно меняются местами — русский философ не первый констатирует идеальную природу представлений о материальном. Через ритм сверхличностное Я сливается с мировой сущностью в мистическом экстазе: «...когда же слушаю ритм, я беспределен, во мне не существует границ, во мне нет ни времени, ни пространства, я ничего не преодолеваю, я сам стихия возбуждения или, вернее, не различаю себя в биении границ» (319—320). Малевич последовательно-радикален в супрематической редукции мира и окончательно нейтрализует все оппозиции, растворив их в беспредельной беспредметности. Для Я, постигшего Ничто, не существует преград между субъектом и объектом. Рассуждения, неоднократно встречающиеся на предыдущих страницах, увенчиваются в третьей главе своеобразным апофеозом трансцендентального солипсизма: «Я не могу себе представить себя — где я начинаюсь и где кончаюсь, и какую часть тела моего прошло ядро. Ведь для того, чтобы пролететь, ядру необходимо не только преодолеть пространство, но уничтожить и сонмы жизней, невидимых нам. Но уничтожило ли оно их или изменило ли их движение? Нет, ничего не изменилось, ибо ничего нет» (311). * * * Вся последняя глава отшлифована и отточена, она написана практически без правки. Суждения и размышления принимают в ней вид окончательных формулировок. Ключом к характеру текста служит открывающее его посвящение: «Михаилу Осиповичу Гершензону». В трактате философа-«безкнижника» это одно-единственное имя, принадлежащее другому мыслителю. Михаил Осипович Гершензон (1869—1925) был человеком, занимавшим особое место в жизни Малевича. Их знакомство относилось к 1916 году, когда в круг приверженцев супрематизма вошла художница Наталья Михайловна Давыдова (1875—1933), племянница Николая Александровича Бердяева (дочь его родной сестры). Давыдова, супруга предводителя Дворянского собрания Киевской губернии, организовала в своем украинском имении артель художественного труда «Вербовка»; центр деятельности киевской состоятельной дамы в середине 1910-х годов постепенно переместился в Москву27. Вместе с компатриоткой Александрой Экстер она устроила ряд московских выставок, где новейшее искусство под водительством Малевича было призвано продемонстрировать свои жизнестроительные потенции. Давыдова вошла в первое общество супрематистов «Супремус» (1916—1918). Критические высказывания Бердяева о «супраматизме»28, быть может, были инспирированы посещением вернисажей выставок, где выставлялись друзья его племянницы. Через нее стал возможен непосредственный контакт между двумя полярно ориентированными кругами московской интеллигенции, философами Серебряного века и радикалами-авангардистами. Следует, однако, подчеркнуть, что подлинная и прочная связь возникла только между Гершензоном и Малевичем. «Черный квадрат» и другие полотна абстрактного геометризма появились в Москве на выставке «Бубнового валета» в конце 1916 года. Впечатление, произведенное ими на Гершензона, было описано Андреем Белым29. В свете умонастроений московского литератора «Черный квадрат» стал символом нигилистического отрицания-освобождения от всего нажитого человечеством тяжелого, давящего культурного достояния. Экклезиастская усталость Гершензона, столь полно выразившаяся впоследствии в «Переписке из двух углов»30 и столь контрастная по отношению к мироощущению его оппонента, Вячеслава Иванова, заставила его увидеть в Малевиче варвара со свежей кровью, не отравленного умирающей культурой; противостояние цивилизации и варварства было одной из самых популярных мифологем эпохи, резонируя с эсхатологическими настроениями русской интеллигенции в преддверии революций. Ныне сложно судить, какая роль была отведена в духовной жизни Гершензона художнику-авангардисту. Имени Малевича нет в околичностях и подробностях гершензоновской биографии, за исключением свидетельств Андрея Белого и немногих строчек в мемуарах дочери, Натальи Михайловны Гершензон-Чегодаевой31. Вместе с тем есть ряд косвенных указаний, говорящих о том, что вес Малевича в размышлениях Гершензона был не так уж мал, хотя трудно представить кого бы то ни было из гершензоновского круга, с кем писатель мог бы обсуждать идеи художника и кто без пренебрежения отнесся бы к малевичевским «дилетантским» текстам. Тем более поразительна чуткость и ответственность Гершензона, не уклонившегося от роли Другого в диалоге, столь необходимом родоначальнику супрематизма. Общение между писателем и живописцем было поначалу устным; при сопоставлении дат далеко не беспочвенной представляется гипотеза, что Гершензон сыграл первостепенную роль в обращении Малевича к философствованию, поскольку обязывал нового знакомца записывать свои размышления о тех предметах, что были в центре его собственного, Гершензона, внимания. Так, Малевич в приписке к своей машинописной статье «Поэзия» пишет: «Михаил Осипович, не могу к Вам зайти, много и очень много дела, нужно везде поспевать <...> о душе и духе потерял рукопись, записал заботу человеков о душе, беда моя, что не могу повторить...»32. Гершензоновская работа «Дух и Душа» появилась в сборнике, вышедшем в том же, 1918 году33. Супрематист старался переслать, показать своему собеседнику все свои тексты — очевидно, такой между ними был уговор. Гершензон, побуждая Малевича к фиксированию мыслей на бумаге, взял с него обещание «писать о нездешнем» (337). Письма художника к писателю, скрытые от исследователей вплоть до конца XX века, служат аккомпанементом для философских сочинений, появившихся в Витебске. Читая эти эпистолярные послания, словно присутствуешь при кристаллизации супрематических концепций, непосредственно произрастающих из жизни автора; тесная сплетенность умозрительного философствования с переживанием обыденных событий лишний раз свидетельствует об исключительной цельности его личности. Отдавая себе отчет в дистанции между гершензоновским и собственным интеллектуальным багажом, Малевич тем не менее был уверен в интересе просвещенного литератора к его творчеству. Витебские послания к московскому собеседнику перерастали в обширные «записки». Примечательны обертона этого жанрового определения: словно медиум, Малевич записывал то, что диктовал ему его внутренний опыт, и не мог дистанцироваться от своих текстов; иногда он с самоиронией предполагал, что при взгляде со стороны его «записки» могут быть «деревянным велосипедом на фоне шедевров» (345). Художник нуждался в оценке, поддержке, поскольку был много и жестоко бит за безграмотность и необразованность (в гершензоновской аттестации его как «папуаса» Малевич ощущал несомненный позитивный тон34). Внимание столь авторитетного человека, как Гершензон, внутренне оправдывало беззаконного философа-супрематиста. Много позже он рассказывал, что писатель, вникая в его тексты, советовал не отвлекаться на отделывание фраз, литературного стиля, поскольку из-за этих усилий может пропасть, уйти «тонкая мысль», — Гершензон, стало быть, видел ее в сочинениях своего корреспондента35. К сожалению, ответные послания писателя нам неизвестны, скорее всего, они исчезли еще при жизни художника. Духовные контакты с Гершензоном высвечивают существенные черты супрематической мифо-онтологии Малевича. Темы гершензоновского круга, получая отражение в его текстах, переживают знаменательные превращения. Механизм их транспонирования был тем же, что и при взаимодействии с другими катализирующими малевичевскую мысль импульсами. Чужая концептуальная формулировка-девиз становилась для него камертоном, по которому он настраивал смысловое звучание собственного текста с неукоснительным приведением его в конце концов к идее беспредметности. Выше уже говорилось о роли, сыгранной шопенгауэровским заглавием «Мир как воля и представление». Название книги Гершензона «Тройственный образ совершенства», выпущенной в Москве в 1918 году, было еще одним таким влиятельным смыслопорождающим камертоном для Малевича. В отличие от сочинения Шопенгауэра гершензоновскую книгу Малевич читал; третий раздел ныне публикуемого трактата — с новой категорией «совершенство» и «Бог как совершенство» — был своеобразной вариацией-контроверзой на главный философский труд московского писателя. Однако пошаговое анализирование-сравнение положений не входит в задачу настоящей работы; гораздо плодотворнее выявить различия между мировоззрениями писателя и художника. Доминирующая черта Гершензона как человека и мыслителя — острая субъективность психологически изощренного отношения к миру. По определению его биографа-исследователя В. Проскуриной, «главным дефинитивным признаком гершензоновской метафизико-религиозной модели был ее психологизм» (подчеркнуто автором)36. Психологический персонализм Гершензона был конституционным и отрефлексированным; его религиозные взгляды — в согласии с выводами книги В. Джемса37, оказавшей огромное влияние на культуру начала XX века, — были результатом личностного выбора, выработки. Для кратости сильно упрощая и тем самым неизбежно огрубляя ситуацию, следует заметить, что в этом, как представляется, заключалось главное различие между московским литератором и его окружением. «Каждому было отпущено по вере его»; Бог его друзей-христиан пролил на них свою благодать; у субъективиста-гностика Гершензона была личная религия, и его Бог не мог примирить его с земной темницей, в которой обречен был страдать дух; унаследованная и приумноженная культура только усугубляла тяжесть пластов, под которыми была погребена одинокая душа философа. Взаимоотношения индивидуума и универсума, заточенность духа в косном дольнем мире, взыскуемая интимность общения с высшими сферами и другие направления духовных переживаний Гершензона контекстом своим имели символистские умонастроения начала прошлого века. Малевич, не избежавший на ранней стадии живописного развития влияния символистского мироощущения, вскоре стал его противником, саркастически обличая «блуждание в голубых тенях символизма»38. Элиминации подверглись прежде всего психологизм и эмоциональная субъективность. Как известно, отрицательное отношение к психологизму и субъективности было одной из черт футуристической доктрины Ф.Т. Маринетти, которая в свою очередь восходила к философии сверхчеловека Ницше. В случае Малевича футуристическая доктрина со всеми ее истоками нашла зрелого сторонника: «В искусстве нужна истина, но не искренность»39, — провозгласил художник-кубофутурист в одной из своих деклараций. Это был радикальный отказ от основополагающего фундамента русской культуры, русского искусства, зиждущегося прежде всего на «душе», то есть психологическом, эмоционально-нравственном оправдании мира. Истина, Добро и Красота — великая Троица, поклонение которой являлось историческим призванием «загадочной русской души» (характерно, что в этой устойчивой мифологеме именно «душа» объявлена загадочной и русской). Гершензон, несмотря на свою автономность в смысле ортодоксальных верований, находился внутри отечественной религиозно-философской традиции, нервом которой в первые десятилетия XX века стала «русская идея». Стержневыми для нее были «тема о божественном космосе и о космическом преображении, об энергиях Творца в творениях; тема о божественном в человеке, о творческом призвании человека и смысле культуры; тема эсхатологическая, тема философии истории»40. Несомненно, что Малевич свою супрематическую философию, обращенную к человеческому универсуму вне национальных и конфессиональных различий, и не помыслил бы ограничивать «русскими» рамками; в свою очередь, интеллектуалы Серебряного века в соответствии со своими эсхатологическими стереотипами в произведениях беспредметника увидели прежде всего «шаги грядущего Хама»41. Гершензона и «Хама»-Малевича сближало, думается, некое экзистенциальное одиночество, маргинальность каждого в своей среде при всем несходстве их реальной жизненной ситуации; как представляется, эта маргинальность, отдельность обеспечивала толерантность восприятия еврея Гершензона, осознанно находившегося вне ортодоксального православия с его жесткостью, если не сказать, нетерпимостью; нетерпимость была и добродетелью идеологизированной русской интеллигенции, как на собственном опыте испытал инициатор «Вех». Гершензон заражал собеседника-«варвара» своими неотступными размышлениями; в революционные годы их болезненным стержнем были взаимоотношения с С.Н. Булгаковым42. Ныне публикуемые «булгаковские письма» Малевича (авторское определение) лишний раз демонстрируют, как супрематист переиначивал чужие дискурсы в собственные. В малевичевском учении с его отказом от психологического измерения личности не было места ни Любви, ни Благодати. Философский супрематизм кардинально расходился с традицией русского религиозного философствования, в которой так или иначе имплицировано понятие Благодати, любви Бога к твари, их диалогическое взаимодействие. Любовь, породившая в отечественной философии эротизированно-религиозную концепцию Софии, премудрости Божьей43, была глубоко чужда супрематической мифо-онтологии, устремленной к вселенской монистической беспредметности. И если бы взгляды подлинного мистика Малевича чудом оказались в центре внимания друзей Гершензона, они, без сомнения, были бы объявлены ущербными, поскольку нормативным представлялся только мистицизм христианской духовности. Бердяев, самоотождествляясь с философами-мистиками православного толка, все остальные типы мистицизма квалифицировал как ущербные: «Монизм есть всегда отрицание тайны богочеловечности, двуединства, которая вполне раскрывается лишь в христианстве. Христианство персоналистично и потому соединяет монизм с плюрализмом. Этому может соответствовать лишь мистика любви. Любви нет без личности, любовь идет от личности к личности. Ориентация на личность есть по преимуществу этическая, ориентация же на космос по преимуществу эстетическая. Экстатическое слияние с космосом есть особый тип мистики, подобно тому как существует тип мистики социальной... для христианской духовности, для христианской мистики можно установить три условия, три признака: личность, свобода, любовь. Где одно из этих условий отсутствует, христианская мистика ущерблена, есть уклон»44. Минималистская ориентированность супрематизма, его «иконоборчество», опирающееся на идею иллюзорности видимого мира, неизбежно возбуждают параллели с феноменом «молчальничества», сокровенного ядра православия; однако парадигма исихазма и супрематизма принципиально различны при общности некоторых структурирующих положений. В феноменологии аскезы, получившей предварительную систематизацию в трудах отечественного философа-богослова С.С. Хоружего45, присутствует ряд совпадений с феноменологией супрематизма, — тем более красноречивы отличия. Наиболее существенная общность обеих парадигм проявляется в господстве энергийного дискурса. Мир как беспредметность у Малевича всецело подвластен энергийному началу, «возбуждению»; по определению Хоружего, «специфическая природа исихастского опыта... характеризуется, прежде всего, энергийностью, последовательной подчиненностью началу энергии»46. Конституционный для супрематизма энергетизм, как уже было сказано выше, в значительной степени был обусловлен эпистемологией начала XX века, вместе с тем соотнесенность его с истоками отечественной духовной культуры нельзя недооценивать. Именно эти истоки формировали коллективное подсознание народной крестьянской среды, в которой вырос и воспитался художник. Апофатически определяемая «мировая подлинность» супрематизма типологически сходна с апофатическим богопознанием исихазма, однако бездна разделяет их антропологии, несмотря на то, что внешнее сходство проступает в конечном «обожении» человека — цели и исихастской, и супрематической трансценденции. Малевич оперирует понятиями «человек» (иногда «Человек»), но его Человек — доисторически-архаическая мифологема, в ней представлен Человек до-личностный, до-персональный. Самоидентификация супрематиста с этой мифологемой парадоксальным образом трансформирует до-личностного Человека в сверх-личностного, и авторское Я, слившееся с космосом, обретает форму сверхличностного всеобъемлющего субъекта. Трансцендентальный солипсизм, увенчивающий супрематизм, исключает диалогическое сотрудничество Бога и человека в духовном восхождении, то есть синергию, ключевую парадигму исихазма и всей православной антропологии. Примечательно, что в одной из своих апорий иррационалист-логик вынужден вообще отказаться от человека, объявив его «не существующим» («...если человек всю представляемость посчитал за Бога и нашел, что душа и тело несмертны, то очевидно, что нет ничего во Вселенной, как только «он» <Бог>, ибо «он» не смертный. Человек же смертный, но так как нет ничего смертного, то нет человека», 311). Христианский персонализм, личная ответственность каждого за спасение души в диалогическом «соработничестве» с Богом, прямо противостоит монистическому имперсонализму супрематического мистицизма. Онтологическое Ничто супрематиста и вербально, и понятийно соотносится с другой традицией, в пределе лишенной религиозной окраски. Иррационалист Малевич, в моменты экстаза сливающийся с мировой сущностью, отрицающий пространство и время, жизнь и смерть, объект и субъект, упраздняющий любое различение, действительное для реальности, объявляющий «мир как волю и представление» иллюзией, стихийно и самочинно открывает основы восточной философии. В положениях теоретической беспредметности родственно откликаются космология и метафизика дзэн-буддизма, преимущественно в той его трактовке, что представлена в категории Махаяны. Ничто супрематической философии смыкается с Ничто нирваны, Ничто вечного покоя; понятие «Вечный покой» в итоге и было вынесено Малевичем в заглавие ныне публикуемого труда. Речь уже не единожды шла о стихийном подключении русского художника к тем или иным духовным токам ноосферы, неведомым ему на уровне индивидуального сознания. К этому положению необходимо сделать ряд оговорок. Влияние индуистской мистики после текстов ее апологета Шопенгауэра довольно быстро пропитало культуру Европы и России, наложившись на небывалый расцвет разнообразных эзотерических верований в конце XIX — начале XX века47. Сочинения российского философа-оккультиста П.Д. Успенского (1878—1947), трактующего проблемы «четвертого измерения» и «высшей духовности», были чрезвычайно популярны среди русской интеллигенции48; как известно, ближайший друг и единомышленник Малевича, художник и композитор М.В. Матюшин (1866—1934), находился под сильным воздействием взглядов Успенского. Малевич не мог пройти мимо этих увлечений, однако уже в 1916 году он восстал против попыток разума заключить непостижимую реальность в рассудочные «измерения»49. Супрематист так же отличался удивительной трезвостью по отношению к вульгаризированному оккультизму, произвольно-прагматически эксплуатирующему темные глубины людской психики. И хотя власть эпохи над художником была несомненной, все же харизматический склад личности играл доминирующую роль в его первородных интуициях. Строки Малевича, фиксирующие моменты мистических откровений, обладают высокой степенью общности с текстами неизвестных ему великих восточных мистиков (Лао-цзы, Чжуан-цзы, Хуэйнена и других). Выше уже говорилось о тождестве экстатических состояний у представителей разных духовных вероисповеданий; по характеристике Бердяева, «мистика всех времен, всех стран и религий имеет родовые черты. По чертам этим узнается порода мистиков. Они между собой перекликаются из разных миров. Между мистиками разных религий больше сходства, чем между самими религиями. Глубина духовности может обнаружить большую общность, чем объективация религиозных типов»50. Точками соприкосновения дзэн-буддизма и супрематизма были положения о Высшей реальности (Вечном космосе, «мировой сущности»); элиминация дуалистического мышления, оперирующего противопоставлениями; утверждение иллюзорности феноменального (предметного) мира; пробуждение к опыту переживания космической реальности, которая неизъяснима; конечное погружение в Ничто, Вечный покой. Однако общность в онтологическом горизонте не могла нейтрализовать существенного различия двух сходных мирочувствований. У дзэн-буддизма и исихазма есть одно фундаментальное общее свойство — это прежде всего школы духовной практики, призванные через медитацию или молитву возвести послушника на высший уровень бытия; мистические практики мировых традиций при всей высшей духовности в значительной степени окрашены своеобразным прагматизмом. В мистической мифо-онтологии Малевича прагматизм, утилитарность были главными «не-домыслами», обусловившими в итоге всю неправильную стратегию человечества. Из-за них, по мысли философа, возникла вымышленная причинно-следственная связь, которой не существовало в мире как беспредметности. Выработка любых упражнений души и тела для возвышения духа были для супрематиста все теми же уловками ненавистного рассудка, разума, полагающего, что своими придуманными инструментами-методами он может опредметить беспредметность. Отличаясь чертами своеобразного учения, супрематизм все же не обладал претензиями — или, если угодно, потенциями — стать школой духовной практики, хотя в непрестанном творческом созидании уновисцев можно видеть определенные предпосылки такой школы. * * * Глубинные принципиальные расхождения супрематической философии с современной ей религиозно-философской традицией не отменяли ее сугубо отечественного характера. «Самобытнорусскую» философию всегда отличало стремление к синтетическому всеобъемлющему мировоззрению, вырабатываемому с помощью духовной интуиции; по слову А.Ф. Лосева, русская философия «...является насквозь интуитивным, можно даже сказать, мистическим творчеством, у которого нет времени, а вообще говоря, нет и охоты заниматься логическим оттачиванием мысли»51. В смысле самобытности философия Малевича была плоть от плоти «самобытно-русской» философии, она несла на себе все ее родовые черты — синтетизм, универсальность, профетический пафос, эсхатологически-мессианскую окраску, отсутствие мыслительной дисциплины и академической систематизации взглядов, «чисто внутреннее, интуитивное, чисто мистическое познание сущего, его скрытых глубин, которые могут быть постигнуты ... посредством силы воображения и внутренней жизненной подвижности»52. Эти свойства роднили супрематическую мифоонтологию художника Малевича с философским творчеством других деятелей русской культуры, находившим наиболее адекватное выражение в искусстве («...художественная литература является кладезем самобытной русской философии»53). Теории Малевича, выросшие из живописи, впоследствии как бы снова вернулись к пластике и отлились в художественные формы высоких достоинств; супрематист оказался достойным продолжателем традиций русских мыслителей, чья философская мысль была неотделима от их творчества. * * * В рукописи «Супрематизм. Мир как беспредметность, или Вечный покой» была запечатлена длительная акция художника — размышления с пером в руке, синхронно фиксирующим повороты мысли; в итоге возник многомерный, многоуровневый текст, с собственным пространством и собственным временем. Процессуальность мысли отражалась на письме самым непосредственным образом; именно поэтому от малевичевского сочинения, как уже отмечалось, не приходится ждать последовательности. Иногда создается впечатление, что автор, на наших глазах развивая свои доказательства, приходит к выводу, неожиданному не только для нас, но и для самого себя, что не мешает ему лишь укрепиться в главной своей идее. Как известно, философов всех времен типологически можно разделить на мыслителей «процесса» и «проблем» и мыслителей «конструкций» и «систем». Малевича, однако, трудно целиком отнести к одному из них; скорее, он сопрягает оба — или, очевидно принадлежа к первому, стремится имитировать второй. Имманентные качества первого типа мыслителей, апофатика, противоречивость, в высшей степени были свойственны супрематисту. Малевич яростно протестовал против «предметности» мысли, то есть того, что бытие можно уловить понятиями; мировая подлинность, беспредметность, могла быть очерчена и очерчивалась в его текстах преимущественно апофатически. Формализация процесса рассуждения — квазисистематизация философии супрематизма, собственные категории и инверсированность понятий вкупе с прямолинейными логическими операциями порождали сознательно абсурдистские утверждения Малевича. Множество рассуждений и большинство доказательств в настоящем трактате основаны на риторической фигуре традиционного силлогизма, формальная логика которого приводит к возникновению многочисленных малевичевских апорий. Апофатика и апоретика — основные инструменты, используемые философом-супрематистом для утверждения своей истины. Характеристика С. Хоружего, данная свидетельствам одного из православных мистиков, Симеона Нового Богослова, в большой степени может быть отнесена к трактату Малевича: «По сочетанию апофатичности и антиномичности с твердым впечатлением реальности и достоверности опыта — это неоспоримо классический текст мистического дискурса»54. Выше уже не раз говорилось о собственных философских категориях и определениях Малевича. Это приводило к появлению терминологии, где одно и тоже слово вовсе не равно себе в разных контекстах и обозначать может прямо противоположное в зависимости от соседства. Такой прием контекстуализации терминизируемого слова приводит к сдвигу в соответствии с поэтикой футуризма, которая была столь близка Малевичу-кубофутуристу. Сдвиг вызывал остранение привычного слова (формалисты с блеском проанализируют и утвердят этот прием), приобретающего нужный автору смысл (см. выше цитату из трактата, где слово «безумие» в одном пассаже имеет два противоположных смысла, позитивно-«бес-предметный» и негативно-бытовой). Друг и единомышленник будетлян не только вкладывал свой собственный смысл в уже существовавшие до него слова; при необходимости он сочинял новые. Неологизмы Малевича-речетворца обладают большой выразительной силой. Имена для своих категорий-понятий он производил путем грамматического конструирования слова, языковыми средствами воссоздавая сам процесс мышления, отпечатывая в речи следы мысли. В тексте трактата много вариантов для обозначения неправильной стратегии человечества на протяжении веков: несмысл, недомысел, недомыслие, безмыслие. Одним из излюбленных приемов было использование приставки «без» с последующей цезурой-дефисом, отделяющим ее от корня. В понятиях «без-предметность», «без-весие», «без-книжность» акт супрематической редукции словно олицетворен самой вербальной формой. Вышеупомянутый прием остранения Малевич сопрягает с грамматическим конструированием понятий, и в его написании некоторые слова, бытующие в языке с привычной негативной окраской, приобретают позитивный смысл, необходимый апологету без-предметности: без-законие, без-цельность, без-полезность. Наряду с существительными нередко встречаются прилагательные, образованные по тому же принципу: без-вольное, без-идейное, без-условное, без-логичный. Свежести словоупотребления Малевича немало способствовало то, что он вырос на пересечении языковых пластов, — его первым языком был польский, языком детства — украинский; в русской речи художника встречаются полонизмы и украинизмы, звучит эхо славянского корнесловия. Примечательно бытование в его текстах польского предлога poza (в переводе «за»). Так, для наиболее адекватного выражения своей мысли Малевич мастерит словесную конструкцию «по-за сознанием». В первые десятилетия века уже установилось хождение слов «подсознание», «бессознательный», однако эти определения имели отношение к понятию «сознание», стратифицировали его; для Малевича же было важным очертить нечто, находящееся вне и сознания, и подсознания, и бессознательного. Польский предлог он пишет по-русски с дефисом, «по-за», поскольку в нем имплицированы «после» (время) и «за» (пространство); в результате образуется новое понятие, очерчивающее феномен «по-(сле)» и «за» сознанием. Не единожды одну из главных своих мыслей художник иллюстрирует прямыми грамматическими манипуляциями: расчленяя «ничто», вынимает из него «что», а затем снова прячет «что» в «ничто». Малевич-речетворец обладал немалым словесным чутьем — к примеру, у него есть слово «невесомость», употребленное как синоним «без-весия»; в общественный обиход «невесомость» вошла только с наступлением космической эпохи. Термин «деконструкция», сделавший головокружительную карьеру во второй половине XX века, встречается в тексте Малевича в форме «дес-конструкции». Созданные им понятия «беспредметность» и «супрематизм» укоренились в языке, и это высшая похвала любому речетворцу. Супрематист конструирует свои термины, сопрягая нужные ему корни; так появляются: весораспределение, благоудобство, Искусстводелатель, естествоприрода, равнопольза, само-идея, большесильный и другие. Примечательны варианты, созданные по модели других понятий, когда наряду со «всечеловеком» рождается «всезверь», с «единомыслием» — «единоформие». Автор вводит слово «развязь», противопоставляя его «связи», и оперирует ими, равно как оппозицией «суд» и «раз-суд». В философии XX века сходные процедуры впоследствии будет широко практиковать Мартин Хайдеггер, объявивший язык домом бытия. Отечественный исследователь и переводчик сочинений немецкого философа констатирует: «...у Хайдеггера почти отсутствуют термины в традиционном понимании этого слова,... на их место встают терминизуемые им слова родного языка» (подчеркнуто автором)55. Это словно сказано про Малевича, создавшего слова «с-трои-вание» (этим словом он обозначил конструирование, построение триады) и написавшего такие пассажи, как «...причины остаются в пред-разсудке... и никогда не могут быть выяснены в раз-судке» (214) или: «...если возникают идеи, то они возникают в самом человеке, собирающемся вечно идеа-лизировать не идеа-льную, вне идей стоящую природу» (102). Философско-вербальное творчество русского супрематиста в определенной степени предвосхищало те языковые мыслеконструкции, что будут впоследствии ассоциироваться с творчеством Хайдеггера. Риторика Малевича впечатляет экспрессивностью, умелым сочетанием разнообразных приемов. Ирония сказывается в восклицаниях типа «Мир как объект пожирания!», сарказм переполняет фразы «Безумие человека другое — самопоглощение, самоизбиение, самоограбление» (238) или «Общежитие установило, что вся природа, и Солнце, и Луна созданы для их общежитейских интересов» (105); скорбь звучит в словах: «В погоне за материализацией призрака «идеи» возникают лучшие учения и лучшие идеи, но они всегда попадают в руки убийц» (116). Парадоксальность мышления ведет к рождению оксюморонов «фиктивная подлинность», «духовное тело» и т.д. Тавтологическое нагнетание оборачивается напряженностью и силой пассажей, чему замечательным образом способствует шершавость «косоязычих» фраз. Темпераментный поток мысли словно сметает знаки препинания во фразах и абзацах; вместе с тем афористическая емкость и лаконичность высказывания не редкость в текстах супрематиста. В трактате слышны разнообразные интонации Малевича, они явственно ощутимы в риторических вопросах, восклицаниях, в использовании кавычек, употреблении заглавных букв — эти приемы выделяют нужные слова, переводят их в другой смысловой регистр. Помимо интонационного звучания голоса в трактате художника, человека зрения, воочию воплощены зрительные откровения, интуитивные визионерские видения космической реальности («И если бы разуму удалось посмотреть за борт Земли и ощутить себя во мраке бесконечных бездн, где несутся в вихревых вращениях пыльные туманы солнц и планет, тогда бы он увидел, в каком безумии находится. ... Свободный в безумии, наш шар мчит неизвестно куда, без цели, логики и обоснования. Куда летит и к какой цели доставит нас? Или же он никуда не движется? Планеты и солнца блестят как глаза остолбеневшего безумца...», 176) Стиль Малевича с его неуклюжей грандиозностью и темной вдохновенностью не мог не вызывать жесткую критику и неприятие просвещенных и грамотных современников; супрематист сокрушенно признавал свое «нахальство так писать», но не видел для себя возможности поступать по-другому. Вместе с тем философ-харизматик хотел быть изданным, услышанным, прочитанным, и поскольку у него самого не получалось перебеливание и упорядочивание текстов, он с благодарностью относился к предложениям о редакторской помощи, следовавшим от почитаемых им людей; как ясно из одного из витебских писем, такую помощь предлагал ему Гершензон. * * * Трактат «Супрематизм как беспредметность, или Вечный покой» обладает уникальностью не только в плане содержания — в создании внешней и внутренней формы рукописи не мог не сказаться дар Малевича-художника. Витебские бумаги в архиве Малевича в Стеделийк Музеуме хранят специфическую информацию, не учитываемую при типографском воспроизведении, исключающему авторские маргиналии и черновые пометки, в изобилии присутствующие на страницах рукописи. Между тем анализирование этих знаков расширяет представление о своеобразии сочинения Малевича. Труду «Супрематизм. Мир как беспредметность, или Вечный покой» (далее «Вечный покой») предшествовала большая рукопись «Супрематизм как беспредметность, или Живописная сущность» (далее «Живописная сущность»), законченная в марте 1921 года в Витебске. Длинные узкие листы «Живописной сущности» имели облик настоящих черновиков; закончив рукопись, Малевич, очевидно, решил ее перебелить. Однако это ему не удалось; много позднее он признавался Н.И. Харджиеву: «Я не люблю переделывать или повторять уже написанное ... Скучно! Пишу другое»56. Почти сразу после сходного начала новая рукопись разошлась с прежней и приобрела самостоятельное значение; ее так же ожидала участь стать хитросплетением вставок, приписок, исправлений. Рукопись первой части «Вечного покоя» была по окончании ее перенумерована автором и на последнем листе проставлена цифра «70». Затем начался процесс перечитывания; первая часть подверглась наиболее серьезной правке, и не одной, судя по цвету чернил; последняя корректура была сделана зелеными чернилами — чернилами такого же цвета написаны несколько витебских писем к Гершензону. Можно предположить, что черные, синие, фиолетовые чернила в раннесоветском Витебске были дефицитом; с другой стороны, Малевич, несомненно, хотел развести разновременную правку разноцветными чернилами. Уже неоднократно говорилось, что Малевич думал с пером в руке, и структурирование потока сознания, процесса мысли давалось ему нелегко. Поэтому построение сочинения из отдельных параграфов, традиционное для научного труда, привлекло его; не исключено, что он воспользовался советом Гершензона. Впервые разбивка всего сочинения на параграфы была осуществлена при работе над «Живописной сущностью». Однако нумерация проставлялась автором по уже написанному тексту, и порядковые цифры врезались то в середину, то в конец строки, что разоблачало формальное подражание тезисному изложению, принятому в философских сочинениях. Разделение первой части «Вечного покоя» на параграфы художник так же провел задним числом; к такому выводу побуждает прихотливое расположение порядковых номеров на страницах. На первом десятке листов разместилось 45 параграфов (в параграфе, следующем за 45-м, цифра «46» была зачеркнута); затем, как казалось, шел сплошной текст. Но это была обманчивая нерасчлененность. Уже в начале рукописи появилось обозначение «Вставка к стр. 2, л. 1», за которой возникли многостраничные вставки к страницам 4, 5, 7 и так далее. В итоге первая часть заняла 102 листа, то есть дополнительные страницы составили половину первоначального текста. У вставок было разное происхождение. Нередко они писались, когда уже невозможно было втискивать новые строки между прежних. Но чаще всего у Малевича возникали новые соображения и уточнения по поводу собственной идеи, ее дополнение или развитие. Слова Анри Бергсона, говорившего о людях, родившихся на свет философами, без зазора накладываются на тексты русского художника: «Он не мог формулировать того, что он имел в уме, так, чтобы не испытать потом повелительной потребности поправить свою формулу, а потом поправить поправку. ...поправляя себя — в то время, как он думал, что дополняет себя — он, путем усложнений, нагроможденных на усложнения, и аргументов, следовавших за аргументами, пытался лишь передать со все большим приближением простоту своей оригинальной интуиции»57. Вставки Малевича перерастали в огромные тексты (к примеру, последняя вставка разместилась на 8 листах из 102); к вставкам не раз писались новые вставки. Вверху добавочных страниц всегда было указано, куда их поместить, а на соответствующих листах помечалось, что здесь должна быть вставка. Иногда дополнительные тексты подписывались буквой «К<азимир>»; по сути дела, это были самостоятельные разделы, монтировавшиеся на указанное место; может быть, поэтому деление на параграфы коснулось только начала первой части, а дальше, вплоть до ее конца, конструктивную роль параграфов играли вставные разделы. Такое имплантирование обильных и обширных вставок в основной объем превратилось в своеобразный композиционный прием супрематиста. И хотя этот ход не был отрефлексированным, в нем получило развитие малевичевское отношение к блокам текста как настоящим блокам-объемам, органически связанным с «материковым» вербальным пространством, но потенциально самостоятельным. Это отношение проявилось впервые в 1920 году, когда автор вынул несколько крупных фрагментов из своего сочинения «О новых системах в искусстве» и смонтировал их в текст отдельного издания «От Сезанна к супрематизму»58. В «Вечном покое» сходная операция была проделана как в смысле конструкции, так и дес-конструкции композиции, если воспользоваться словом художника. В начале 1921 года Малевич написал небольшой трактат, названный «Мысль» или «Белая мысль»59. Текст этого трактата, поделенный на тезисы, стал гершензоновской главой в сочинении «Вечный покой» (этим, замечу, отчасти объяснялась ее отшлифованность по сравнению с предыдущими главами). В свою очередь гершензоновская глава, состоящая из 44-х параграфов, оказалась донором для другого издания: из нее были извлечены 33 параграфа и опубликованы как самостоятельное сочинение под названием «Бог не скинут»60. Следует отметить, что издание брошюры осуществлялось по ныне публикуемой рукописи, как показывает сличение текстов; у Малевича в Витебске был редактор, исключивший наиболее острые антиматериалистические высказывания (никакого политического смысла художник в них не вкладывал, но уже тогда, очевидно, формировалось умение видеть диссидентские взгляды во всех антиматериалистических положениях). Разносторонние связи между отдельными трактатами Малевича, взаимоотношения многообразных вариантов образуют сложную и разветвленную систему. Сочинения художника представляют собой, по сути, единый мегатекст, создаваемый в течении жизни. Основным ядром этого мегатекста был настоящий трактат; прибегая к астрономической метафорике Малевича, можно сказать, что «Вечный покой» играл роль центра планетарной системы его текстов. Если представить себе пространственно-объемную ипостась рукописи «Вечного покоя», то становится очевидным, что при ее организации Малевич впервые применил принцип конструирования, который получил столь впечатляющее воплощение в его архитектонах. В этих архитектурных моделях к доминирующему объему приставлялись дополнительные объемы, находящиеся в сложных ритмико-пространственных соотношениях с основным. И центральный, и сопутствующие объемы были разными по величине, но в них сохранялось геометрическое соответствие, они всегда были стереометрическими шестигранниками (брусками, кубами, плитами, тягами) с правильными прямоугольниками в сечении. В изобилии перечислений, повторов, разного рода словесных рядов в трактате просматривается своеобразный серийный принцип — своей тавтологической природой он так же роднил внутреннюю форму вербального текста и пластическую поэтику архитектонов. В подтверждении данной концепции следует сказать, что в первой половине 1920-х Малевич написал целый ряд трактатов с непривычными заголовками в виде математических дробей (от 1/40 до 1/49 с пропуском 1/43 и 1/44)61. Единица в знаменателе обозначала, что данный текст имеет отношение к I части «Вечного покоя», а цифры в числителе указывали на соответствующий параграф этой части. Необходимо отметить, что в такой маркировке присутствовал некий строительный аспект: подобным образом могли быть помечены каменные блоки для указания места и порядка их монтажа при возведении архитектурного сооружения. Трактаты с дробями, родившиеся из вставок к I части «Вечного покоя», обладали автономностью: цифра параграфа 46 была зачеркнута автором, следовательно, трактат 1/46 самостоятелен, а параграфов с номерами 47, 48, 49 вообще нет; таким образом, сочинения 1/47—1/49 предназначались как бы для наращивания основного объема. Взаимосвязанность трактата 1/46 с первой частью настоящего сочинения была выявлена уже их первым публикатором и переводчиком, Гансом фон Ризеном, о чем см. ниже. Вторую часть «Вечного покоя» с обеими ее главами Малевич изначально писал тезисно, с полным соблюдением академического этикета. На полях против параграфов он нередко помещал ключевые слова или понятия, толкованию, освещению, разработке которых был посвящен данный тезис. Загадочными и посейчас представляются значки на левых полях всей второй главы, представляющие собой крестообразные росчерки с разнообразными цифрами в правом нижнем отсеке; их назначение (разбивка на будущие печатные страницы? взаимосвязь с другими параграфами?) пока не поддается удовлетворительному объяснению, но несомненно, что эти маргиналии так же причастны к пластической организации рукописи. Отношение к страницам с текстом как художественному произведению проступило и в том, что Малевич не единожды делал из них своеобразные супрематические композиции, раскрашивая разноцветными карандашами прямоугольные бруски и полоски, перекрывавшие зачеркнутые слова и строки.
Однако можно рефлексировать не только по поводу пространственно-пластической архитектоники «Вечного покоя»; художник не преминул ввести в рукопись и время. Судя по письмам к Гершензону, к рукописи «Вечного покоя» Малевич приступил осенью 1921 года. Начиная с 9-го листа авторской нумерации второй части, в левых нижних углах указаны даты; первая из них, 13 января 1922 года, дает знать, что страница писалась в первый день нового года по старому стилю. Гершензоновская глава была начата 31 января; последнее число, 5 февраля, было помещено на листе 43. В конце части и всей рукописи Малевич поставил дату 11 февраля, причем вторая единица была написана поверх другой цифры (8? 9?). Письмо Гершензону, в котором художник дает оценку собственного труда, так же помечено 11 февраля 1922 года, что дает основания предположить, что оно было написано сразу по окончании рукописи («снятия лесов»). Останавливаясь на проблеме времени, необходимо отметить, что Малевич неоднократно переворачивал темпоральность своего сочинения. Поскольку рукопись намеренно была оставлена в черновом виде, то при ее чтении более поздние соображения, к которым автор пришел впоследствии, но вписал в более ранний текст, очевидно обращают время вспять. Отношения со временем — физическим, историческим — у Малевича всегда были глубоко индивидуальными; как следует из нынешнего сочинения, беспредметник отнюдь не считал время априорной категорией бытия и, отказывая феномену времени в подлинности, тем самым фундировал возможность распоряжаться им как заблагорассудится. Супрематическая метафизика времени привела в реальной жизни к сознательно мистифицированной Малевичем хронологии художнической биографии62. Разнообразные приемы автора при создании рукописи «Вечного покоя» — пространственный монтаж текстовых блоков, раскраска страниц цветными супрематическими брусками, вольная игра со временем — обусловили возникновение уникального словесно-пластического произведения, своеобразной вербальной инсталляции. Она возникла стихийно, но вместе с тем очевидно, что Малевич самым внимательным образом продумывал архитектонику своего главного сочинения. * * * Центральный труд Малевича впервые был опубликован на немецком языке в Германии в 1962 году63. Как известно, свой архив художник оставил в Берлине в мае 1927 года, снабдив распоряжением-завещанием: «В случае смерти моей или тюремного безвыходного заключения, и в случае если владелец сих рукописей пожелает их издать, то для этого их нужно изучить и тогда перевести на иной язык, ибо находясь в свое время под революцион<ным> влиянием, могут быть сильные противоречия с той формою защиты Искусства, котора<я> есть у меня сейчас т<о есть> 1927 года. Эти положения считать настоящими. К. Малевич 1927 Май 30 Berlin»64. Папки с бумагами он передал семейству фон Ризен, опекавшему его во время визита. Заслуги этого семейства в деле сохранения и пропагандирования творчества Малевича трудно переоценить. Фон Ризены — в лице отца семейства Густава и его сыновей Александера и Ганса — были большими почитателями русской культуры; в России, где родились оба сына, семейство проживало до Первой мировой войны65. Весной 1927 года во время визита Малевича в Германию Александер фон Ризен сопровождал его в качестве переводчика; он же перевел на немецкий язык тексты, изданные Баухаузом в конце 1927-го под общим названием «Мир как беспредметность»66. Однако своей баухаузовской книгой Малевич был недоволен, поскольку считал ее перевод неудовлетворительным. Сам он судить об этом не мог; очевидно, Эль Лисицкий, превосходно владевший немецким и много работавший над переводами сочинений Малевича, поставил его в известность о качестве перевода Александера фон Ризена. Ганс Рихтер в своих воспоминаниях прозрачно намекнул на невнятность и «сумбурную заумность» баухаузовской книги Малевича67. Ганс фон Ризен приступил к разбору малевичевского архива, чудом уцелевшего в их разбомбленном доме во время войны, в конце 1950-х годов. Движимый глубоким пиететом к Малевичу, он подготовил издание, достойно представившее творчество русского авангардиста и как художника, и как теоретика. Книге было предпослано исторически-аналитическое введение, написанное авторитетным ученым Вернером Хафтманном. Ганс фон Ризен так же предварил ее предисловием, где рассказал историю появления архива в их семье, пояснил состав книги, упомянул о языковых трудностях малевичевских текстов, остановился на неологизмах и абрревиатурах сочинения. Основную часть издания занял трактат «Супрематизм. Мир как беспредметность, или Вечный покой», который получил в переводе название «Suprematismus — Die gegenstandslose Welt» (дословно: «Супрематизм — беспредметный мир»); он дал название всей книге. Вслед за самым большим сочинением был опубликован трактат «Супрематизм. 1/46», датированный Малевичем 1923 годом; Ризен указал, что он соотносится с первой частью «Вечного покоя» и развивает архитектурные аспекты теории Малевича. Последним текстом в кёльнском издании стал «Супрематический манифест Уновиса» (1924), помещенный как образец воззвания ко «всем революционным архитекторам» мира. В книге содержались так же многочисленные репродукции картин и рисунков, факсимильные воспроизведения рукописных материалов, документальные фотографии. Ганс фон Ризен совершил своеобразный подвиг, подготовив к публикации на немецком языке черновик иноязычной рукописи. И хотя русская речь для Ризена, родившегося в 1890 году в Москве, был почти что родной, однако трудности с переводами текстов Малевича лежали не в сфере владения нормативным языком. Резкое своеобразие художественного и философского мышления русского авангардиста усиливалось стилистикой и характером изложения мыслей: и без завета Гершензона он не был способен шлифовать фразы, а уж после санкции литературного мэтра тем более. Переводить Малевича было трудно даже Эль Лисицкому, художнику-единомышленнику, писавшему в 1924 году: «С Малевичем дело обстоит довольно сложно, — его русский язык не совсем правилен, грамматика совершенно неверна, невероятные словообразования в рукописи»68. И в другом письме: «Я перевожу это почти как стихи, иначе мне пришлось бы делать слишком много замечаний. ... Теперь у меня осталась самая трудная задача: глава о супрематизме. ... Кое-что из того, что у меня об этом есть, я не хочу переводить, чтобы не представить все это в неверном свете, настолько эти заметки внепластичны и мистичны»69. Хотелось бы отметить эту стихийно возникшую цензуру Лисицкого; тексты Малевича провоцировали на это не одного Лисицкого, как станет ясно в дальнейшем. Собственноручно перенумеровав карандашом всю малевичевскую рукопись, Ганс фон Ризен переводил ее прямо с листа. Уже не раз говорилось, что рукопись, в особенности первые разделы, представляет собой лабиринт приписок, вставок, добавлений; многоуровневая авторская правка делает текст устрашающим для текстолога. Ризен текстологом не был; свою задачу он видел в другом. Руководствуясь лучшими побуждениями, он стремился придать тексту Малевича читабельный, внятный характер. Сложное, «дикое» сочинение было не переведено, а, по сути дела, адаптировано, со всеми особенностями, присущими адаптации: сокращениями абзацев, пересказами, удалением тавтологических или непонятных мест (ими, как правило, оказывались природоестественные рассуждения, которые, очевидно, казались переводчику крайне ненаучными и компрометирующими художника). В своей редактуре Ризен пошел так далеко, что отменил пояснительную часть авторского названия сочинения и кардинально изменил его структуру и композицию. Он выпустил гершензоновскую главу, поскольку счел ее, с одной стороны, повторением предыдущей, а с другой — дублированием брошюры «Бог не скинут» (быть может, в намерения публикатора входило издать только неизвестные тексты Малевича). Ганс фон Ризен, очевидно, имел твердые социалистические убеждения, судя по тщательному переводу всех социально-общественных пассажей Малевича и элиминированию замечаний, которые можно было бы счесть критическими. К примеру, фразу-приписку «Для Социализма люди — средства, через которые установить можно Социализм, а не обратно», Ризен пометил прямо в рукописи карандашными квадратными скобками и выпустил; в такие скобки он заключал и другие места в рукописи, которые — как некогда в сходной ситуации Лисицкий — не считал нужным переводить, чтобы не бросить тень на репутацию Малевича. Сократив последний раздел «Вечного покоя», Ризен завершил вторую часть и все сочинение в целом его настоящим концом, 44-м параграфом гершензоновской главы. Уточнения по поводу перевода и адаптации «Вечного покоя» отнюдь не имеют целью умалить труд Ганса фон Ризена, тем более, что любой перевод — это всегда интерпретация и приспособление текста одной культуры к контексту другой. Немецкий почитатель Малевича совершил, как уже говорилось, настоящий подвиг по дешифровке иноязычной рукописи-черновика и действительно сумел ввести труды Малевича в научный обиход зарубежного искусствознания. Основные положения философа-беспредметника проартикулированы в немецкой книге со всей определенностью. По сути дела, с этого издания 1962 года началось полноценное и триумфальное открытие теоретического творчества Малевича. Многочисленные исследования сочинений русского художника опираются прежде всего на эту публикацию, инициированную Гансом фон Ризеном и выдержавшую уже два переиздания (в 1980 и 1989 годах). В задачи настоящей статьи не входит анализирование огромной литературы, посвященной теоретическому и философскому наследию Малевича; даже простой перечень имен и названий занял бы слишком много места; здесь будут лишь бегло упомянуты наиболее важные и существенные работы, относящиеся прежде всего к ныне публикуемому сочинению. Следует сказать, что первый отклик на философские взгляды Малевича прозвучал все-таки в России; он был сделан по поводу брошюры «Бог не скинут»; сплавленность мистицизма с «индивидуалистическим, доведенным до полного соллипсизма эстетством» была отмечена в разносной рецензии (практически политическом обвинении) просвещенного идеолога конструктивизма Бориса Арватова70. Вернер Хафтманн во вступлении к книге положил начало подлинному осмыслению философии супрематизма71. Он подчеркнул, что функционирование супрематических работ как «объектов чистой медитации и созерцания» делало из них «иконы нового пути в переживании Вселенной», высказав глубокие замечания о профетическом характере малевичевской парадигмы Ничто. Датский историк искусства Троэльс Андерсен отдал много лет своей жизни исследованию и пропагандированию творчества Малевича; он стал издателем четырехтомника его теоретических и литературных сочинений72. В предисловии к неопубликованным трудам, помещенным в третьем томе, Тр. Андерсен изложил нетривиальные соображения о влиянии на главный трактат супрематиста книги Артура Шопенгауэра «Мир как воля и представление»73. Большое внимание основному труду Малевича было уделено в книге, анализирующей теоретический аспект возникновения абстрактного искусства в XX веке. Книга «Малевич и философия» была издана четверть века назад французским историком философии Эммануэлем Мартино74; исследователь считал свой труд первым томом, назвав его «пролегоменами к изучению философии Малевича» (с. 9) и предполагая в будущем более детально углубиться в доктрины художника. Называя методом супрематического философствования «абстрактную феноменологию» (с. 68), Мартино сближает подходы Малевича и Хайдеггера по отношению к Искусству как сфере онтологических экспериментов (с. 73); сопоставлению категорий Ничто у Малевича и Ничто в экзистенциализме, так же преимущественно в редакции Хайдеггера, отдано много страниц книги. (Отвлекаясь в сторону, следует сказать, что в целом в западноевропейской библиографии Малевича-теоретика много места отведено сопоставлениям «нигилистического» теоретического супрематизма и философии Хайдеггера времен родственного сближения взглядов немецкого мыслителя с мироощущением дзэн-буддизма.) В значительной мере на немецкой книге Малевича 1962 года был основан анализ философии Малевича в статьях чешского историка и теоретика искусства Иржи Падрта, теоретических эссе Ф.Ф. Ингольда, М. Григара и других. * * * Настоящая публикация рукописи «Супрематизм. Мир как беспредметность, или Вечный покой», написанной в Витебске в 1921—1922 годах, призвана ввести в научный оборот текст Малевича, максимально соответствующий авторскому замыслу; выполнению этой задачи способствует в первую очередь то, что трактат издается на языке оригинала. В текстологической работе с рукописью публикатор настоящего тома руководствовался прежде всего неоднократно высказанными в свое время пожеланиями Малевича быть прочитанным, понятым и изданным. Рукопись «Супрематизм. Мир как беспредметность, или Вечный покой» хранится в архиве Казимира Малевича в Стеделийк Музеуме, Амстердам, инв.№ 4. Длинные узкие листы рукописи из плотной бумаги (36,3×17 см) были нарезаны из больших листов. Рукопись помещена в специально сделанную для нее папку, на которой неустановленным лицом (автором?) наклеен фрагмент, вырезанный из большего листа, где рукой Малевича написано название «Супрематизм как беспредметность». Наверху первого листа рукописи помещено несколько строчек с названиями, правленными автором. Зачеркнутые варианты: «освобожденное ничто», «как освобожденное ничто», «белый Супрематизм как беспредметность, как мировая подлинность или освобожденное ничто». В окончательном варианте карандашом проставлено заглавными буквами и подчеркнуто слово «Супрематизм», под ним написаны чернилами подчеркнутая строчка «Мир как беспредметность», под ней — «или "Вечный покой"» (все кавычки авторские). В настоящем издании рукопись публикуется под названием: «Супрематизм. Мир как беспредметность, или Вечный покой» со снятыми внутренними кавычками. Название «Супрематизм как беспредметность» функционирует в качестве названия всей второй части сочинения. На первом листе гершензоновской главы густо зачеркнуты карандашом три строчки-заголовка: «II Супр<ематизм> Глава III»; на последующих листах вверху стоят пометки: «II ч. 2 гл.», что и дало основания публикатору разделить всю вторую часть рукописи на две главы. Рукопись была перенумерована Малевичем; обе части имеют собственную нумерацию; цифры проставлены в правом верхнем углу листов чернилами. Часть I, «Супрематизм как чистое познание», заняла листы 1—70; часть II, «Супрематизм как беспредметность» — листы 1—51. Сквозная нумерация карандашом, учитывающая все дополнительные страницы со вставками (листы 1—153), была осуществлена Гансом фон Ризеном. Ему принадлежат так же пометки по-немецки, в том числе красной шариковой ручкой, и отдельные квадратные скобки, поставленные карандашом.
Первая часть рукописи была написана пером и преимущественно черными чернилами. Номера параграфов проставлены синими чернилами. Есть авторские слова и пометки карандашом, крайне немногочисленные. Правка осуществлялась синими, черными, фиолетовыми чернилами. Последняя корректура была сделана зелеными чернилами; ими же написан заголовок первой части, «Супрематизм как чистое познание». Вторая часть рукописи писалась преимущественно фиолетовыми чернилами, правка осуществлялась фиолетовыми и черными чернилами, изредка зелеными. Слова-маргиналии были написаны преимущественно зелеными чернилами. Даты на листах проставлялись теми же чернилами, которыми был написан основной текст. По всей рукописи на некоторых листах зачеркнутые слова и фразы иллюминированы разноцветными карандашами: слово или фраза обводились рамкой и заштриховывались карандашами синего, красного, желтого цвета. Этот прием бытовал в рукописях Малевича начиная с 1919 года. В настоящем издании рукопись публикуется в последней редакции, осуществленной автором зелеными чернилами. Публикатором для удобства чтения текст разбит на абзацы; исправлены грамматические ошибки, расставлены знаки препинания. Сохранены словоупотребление, написание и авторская стилистика в построении фраз. Публикатором было принято решение отказаться от унифицирования заглавных и строчных букв, поскольку в написании слов присутствует авторская интонация: Малевич писал «Наука» и «наука», «Церковь» и «церковь», «Супрематизм» и «супрематизм» и так далее. Выделенные автором слова и фразы в настоящем издании подчеркнуты линией. Авторские скобки, в рукописи имеющие вид косых черточек и круглых скобок, воспроизводятся в настоящей публикации в виде круглых скобок. Авторские квадратные скобки, сделанные чернилами, сняты, что оговорено в примечаниях. Общеизвестные сокращения не раскрываются, если они не раскрыты автором (в тексте встречаются и «т.е.», и «то есть»). Дополнения, толкования и расшифровки публикатора приведены в угловых скобках; зачеркнутые Малевичем фразы и абзацы, необходимые по смыслу, воспроизводятся в квадратных скобках; предположительное чтение неясных слов заключено в фигурные скобки; не поддающиеся прочтению слова обозначаются как <слв. нрзб.>. Сноски и примечания Малевича отмечены звездочками и расположены постранично; примечания публикатора маркированы арабскими цифрами и помещены в конце сочинения. В примечаниях воспроизводятся так же представляющие интерес, но зачеркнутые автором фразы и абзацы рукописи. При публикации второй главы второй части сочинения курсивом выделены слова и фразы, сокращенные редактором брошюры «Бог не скинут» в 1922 году. Маргиналии Малевича отмечены в примечаниях публикатора; там же оговорены размещения вставок в тексте. В приложении публикуются письма Казимира Малевича к Михаилу Осиповичу Гершензону (1918—1924). Принадлежащие семье адресата, письма были переданы в начале 1950-х годов Н.М. Суетину и не возвращены последним из-за последовавшей его кончины. Письма были обнаружены в архиве Н.И. Харджиева в середине 1990-х годов; ныне они хранятся в Фонде Харджиева — Чаги, Амстердам. Письма публикуются с максимальным сохранением авторского стиля, словоупотребления, написания; исправлены непреднамеренные грамматические ошибки, пунктуация в необходимых для понимания текста случаях приближена к современной; примечания и комментарии публикатора помещены в конце раздела. Письма публикуются с любезного разрешения наследников М.О. Гершензона. Публикатор приносит глубокую благодарность директору Стеделийк Музеума г-ну Руди Фуксу, куратору музея г-ну Герту Имансе, заведующему архивом музея г-ну Кику Шплинтеру за предоставленную возможность работать с оригинальными рукописями Малевича и доброжелательную помощь. Слова благодарности адресованы так же руководству Культурного фонда «Центр Харджиева — Чаги» при Стеделийк Музеуме, Амстердам, за разрешение использовать материалы архива фонда. Комментарии и примечания1. Здесь и в дальнейшем после цитат из текстов настоящего издания в круглых скобках указана страница тома; если вся цитата приведена в скобках, то номер страницы проставлен после цитаты через запятую. 2. Вайтемайер Х. Собрание Ленца Шёнберга: европейское движение в изобразительном искусстве с 1958 года по настоящее время // Собрание Ленца Шёнберга: Каталог выставки. Мюнхен: Эдицион Канц, 1989. С. 98. 3. Малевич К. Супрематизм. 34 рисунка. Витебск: Уновис, 1920. С. 4. 4. Малевич К. Я нахожусь в 17 верстах от Москвы ... // Малевич К. Поэзия /Сост., публ., вступ. ст., подгот. текста, коммент. и примеч. А.С. Шатских. М.: Эпифания, 2000. С. 104. 5. См.: Ингарден Р. Введение в феноменологию Эдмунда Гуссерля. М.: Дом интеллектуальной книги, 1999. С. 72. 6. «Феноменологический пласт в рассуждениях Малевича» стал предметом краткого анализа в статье Бориса Гройса. См.: Гройс Б. Малевич и Хайдеггер // Wiener Slawistischer Almanach. Band 9. 1982, S. 355—366. 7. Противоречивость и единство взглядов Малевича составили тему статьи Моймира Григара «Мировоззрение Малевича: противоречивость и целостность» (на англ. языке опубликована в журнале «Avant-Garde». 1990. N 5/6. P. 181—294; на русском — в изд.: Поэзия и живопись: Сборник трудов памяти Н.И. Харджиева. М.: Языки русской культуры, 2000. С. 225—237). В статье голландского профессора, много занимающегося исследованием философской мысли Малевича, очевидно стремление логически объяснить и оправдать противоречия во взглядах русского супрематиста. Справедливо подчеркивая, что «не вполне корректно ... оценивать статьи Малевича с точки зрения профессионально-философской», Григар считает, что непоследовательность Малевича «можно понимать как следствие развития идеологических установок художника за бурные годы войны и революции ... Прочие же неувязки, скорее, вытекают из присущих Малевичу особенностей мышления и подхода к действительности». Григар подчеркивает рационализм художника: «Рационализм проявляется в теоретических рассуждениях Малевича во множестве отсылок к различным наукам: ему было свойственно использование в измененном виде различных терминов из области физики, химии, астрономии, биологии, медицины, физиологии и др.... Такая аналитическая стратегия ясно просматривается в таких исследованиях, как «Введение в теорию прибавочного элемента в живописи» (1926) и статьях о современном или «новом» искусстве (1923—1924)... на художественные концепции Малевича повлияли отнюдь не только теории формальной школы; в его статьях выявляются и другие источники, например, эмпириокритицизм, прикладная психология и эстетика и, наконец, учение о рефлексах — одно из направлений материалистической физиологии. ...Исследователи, занятые анализом элементов теории познания в супрематизме, часто ссылаются не только на Шопенгауэра, но и на Платона, Лао-цзы, Майстера Экхарта и других провозвестников мистических, субъективных и эзотерических доктрин. Однако было бы ошибочно полностью игнорировать в теоретических и философских размышлениях Малевича рационалистические и эмпирические моменты». Моймир Григар полагает, что внутренняя общность взглядов Малевича лежит в сфере стремления «довести любое творческое начинание или установку до логического конца». Но, несмотря на свое несогласие с американским исследователем Ш. Симмонсом, в книге которого творчество Малевича представлено как некая знаково-аллегорическая система, поддающаяся дешифровке с привлечением ассоциативно-символических аналогий (см.: Simmons W.S. Kasimir Malewich’s Black Square and the Genesis of Suprematism. 1907—1915. New York — London, 1981), Моймир Григар в своих интерпретациях так же стремится рационально объяснить иррациональную противоречивость Малевича; поэтому алогизм, который представляется ученому «противоречием с главным направлением всех поисков» художника, он объявляет «ироническим прощанием со всеми «текстовыми» сообщениями в живописи, парадоксальным доводом в пользу того, что живопись нельзя пытаться заставить «говорить» и что принимаемое на веру мироустройство — не что иное, как иллюзия». 8. См. ниже примеч. 73 и примем. 69 к разделу «Письма К.С. Малевича к М.О. Гершензону. 1918—1924» (в дальнейшем «Письма К.С. Малевича») в наст, изд., с. 386. 9. Шопенгауэр А. Мир как воля и представление. М., 1993. С. 379. 10. Boehme J. De incarnatione verbi, oder Von der Menschwerdung Jesu Christi (1620). — Цит. по изд.: Вер Г. Якоб Бёме, сам свидетельствующий о себе и о своей жизни/ Пер. с нем. К. Мамаева. Челябинск: Урал LTD, 1998. С. 120. 11. Padrta J. Le monde en tant que sans-objet ou le repos eternel // Marcade J.-Cl. Cahier Malevitch N 1. Lausanne: L’Age d’Homme, 1983. P. 133—183. В статье чешского историка и теоретика искусства, в заглавие которой вынесено название трактата Малевича («Мир как беспредметность, или Вечный покой»), взгляды русского авангардиста представлены на широком фоне западноевропейских философских традиций, с привлечением имен Якоба Бёме, Майстера Эрхардта, Ф. Шеллинга, Ф. Ницше, П. Успенского, М. Хайдеггера, А. Бретона, Ж. Батайя, А. Мишо, М. Элиаде, Ж. Деррида и других. 12. Вер Г. Указ. соч. С. 81. 13. Birnholz A. On the Meaning of Kazimir Malevich’s «White on White» // Art International, vol. XXI, 1977. N 1. P. 9—16, 55. Автор, говоря об определенной общности мистической дискурса супрематизма и Каббалы, выражает уверенность в знакомстве Малевича с каббалистическими учениями. 14. Хюбшер А. Мыслители нашего времени. М., 1994. С. 247. 15. Там же. С. 247—248. 16. Налимов В.В. Вероятностная модель языка. М., 1979. 17. Вячеслав Иванов и М.О. Гершензон: Переписка из двух углов. Пб.: Алконост, 1921. С. 52. 18. Хайдеггер М. Вопрос о технике. Доклад, прочитанный 18 ноября 1955 года в рамках конференции «Искусство в век техники» (Мюнхен, Баварская Академия художеств). См. так же главу «Алетейя и существо техники («Вопрос о технике», 1953)» в изд.: Бимель В. Мартин Хайдеггер, сам свидетельствующий о себе и своей жизни/Пер. с нем. А. Ведерникова. Челябинск: Урал LTD, 1998. С. 208—232. 19. О сотрудничестве Малевича с газетой «Анархия» см.: Малевич, т. 1, с. 61—125, 330—349. См. так же примеч. 1 к разделу «Письма К.С. Малевича» в наст, изд., с. 368. 20. Социально-философские аспекты утопии супрематизма рассмотрены в ряде статей Т.В. Горячевой, опубликованных в 1990-х годах и базирующихся на ее диссертации «Супрематизм как утопия. Соотношение теории и практики в художественной концепции К. Малевича» (Московский Государственный университет, 1996). 21. В этом высказывании обращает на себя внимание предвосхищенная Малевичем иконография будущих советских памятников «вождю пролетариата» Владимиру Ленину. 22. К. Малевич. Бегущий человек. Около 1932. Холст, масло. 79×65 см. Национальный музей современного искусства (Центр Помпиду), Париж. См. с. 293. 23. М.М. Бахтин, много общавшийся с Малевичем в Витебске в 1920—1922 годах, свидетельствовал: «Он <Малевич>, кроме того, еще занимался астрономией ... У него был небольшой ... телескоп... И вот он по ночам занимался созерцанием звездного неба и так далее, притом занимался им вот в таком ... с хлебниковским проникновением во вселенную» (Беседы В.Д. Дувакина с М.М. Бахтиным. М.: Прогресс, 1996. С. 137—138). 24. График хранится в архиве Малевича в Стеделийк Музеуме, Амстердам. Воспроизведен в изд.: Malevich, vol. IV, III. 25. 25. Фундаментальная наука сравнительно недавно пришла к выводу, что Вселенная возникла в результате первоначального взрыва и ныне пребывает в состоянии расширения (раздувания); одна из наиболее популярных гипотез гласит, что после расширения наступит период сжатия до первоначальной исходной точки. См.: Павленко А.Н. Европейская космология: Основания эпистемологического поворота. М.: Институт философии РАН — Интрада, 1997. С. 214—245. 26. Рассмотрению феномена «новый человек» у Малевича посвящена статья Т.В. Горячевой, трактующая утопические аспекты этого феномена применительно к постсупрематической живописи художника. См.: Горячева Т.В. «Единоликий образ совершенства»: Казимир Малевич о Совершенном Человеке // Совершенный человек: Теология и философия образа: Сб. М.: Валент, 1997. С. 368—392. 27. См. примем. 41 к разделу «Письма К.С. Малевича» в наст, изд., с. 380—381. 28. См.: Бердяев Н.А. Кризис искусства. М.: Изд. Г.А. Лемана и С.И. Сахарова, 1918. С. 15. 29. В книге воспоминаний «Между двух революций» Андрей Белый свидетельствовал: «...однажды М.О., поставив меня перед двумя квадратами супрематиста Малевича (черным и красным), заклокотал, заплевал; и — серьезнейше выпалил голосом лекционным, суровым: «История живописи и все эти Врубели перед такими квадратами — нуль!». Он стоял перед квадратами, точно молясь им; и я стоял: ну да, — два квадрата; он мне объяснял тогда: глядя на эти квадраты (черный и красный), переживает он падение старого мира: «Вы посмотрите, рушится все». Это было в 1916 году, незадолго до революции; перед квадратами М.О. переживал свой будущий «большевизм»; с первых же дней революции — где Малевич, супрематисты? Но тогда же обнаружилось: для своих кадетских друзей он — свирепейший большевик» (Белый Андрей. Между двух революций. М.: Художественная литература, 1990. С. 256). Впоследствии в статье-некрологе «М.О. Гершензон» Белый писал: «Я помню, как в 1916 году он пытался ввести в мою душу парадоксальнейшую картину парадоксальнейшего супрематиста; поклонник законченной пушкинской ясности эту картину повесил перед собой в кабинете»; далее, передавая слова Гершензона («Я каждый день с трепетом останавливаюсь перед этой картиною; и нахожу в ней все новый и новый источник для мыслей и чувств...»), Белый продолжал: «Я же, более «молодой» (и, конечно же, более старый в «рутине» своих отношений к обставшему миру), стоял перед картиной; и видел в картине — квадраты. Он, — он видел: мир...» (Белый Андрей. М.О. Гершензон <некролог>// Россия. 1925. № 5 (14). С. 255—256). 30. Вячеслав Иванов и М.О. Гершензон: Переписка из двух углов. Пб.: Алконост, 1921. 31. За возможность ознакомиться с воспоминаниями Н.М. Гершензон-Чегодаевой в рукописи приношу глубокую благодарность М.А. Чегодаевой. В опубликованных воспоминаниях Н.М. Гершензон-Чегода-евой эти строки выпущены (Гершензон-Чегодаева Н.М. Первые шаги жизненного пути (воспоминания дочери Михаила Гершензона). М.: Захаров, 2000). 32. См. примеч. 2 к разделу «Письма К.С. Малевича» в наст, изд., с. 368—370. 33. Гершензон М.О. Дух и Душа (Биография двух слов) // Слово о культуре: Сборник критических и философских статей. М.: Изд. М. Гордон-Константиновой, 1918. 34. Следует отметить, что Малевич сам употребил слово «папуасы» как обозначение для круга своих друзей в шутливом стихотворении «Скучно попуасы...». См.: Малевич К. Поэзия // Указ. соч. С. 66—67. 35. Малевич рассказал об этом своему ученику, художнику К.И. Рождественскому (1906—1997), во время своей смертельной болезни; рукописные заметки, писавшиеся Рождественским во время посещения больного Малевича или сразу же после возвращения от учителя домой, хранятся в Фонде Харджиева — Чаги, Амстердам. 36. Проскурина В. Течение Гольфстрема: Михаил Гершензон, его жизнь и миф. СПб.: Алетейя, 1998. С. 66. 37. Джемс В. <Джеймс У.> Многообразие религиозного опыта. М., 1910. 38. Матюшин М., Крученых А., Малевич К. Первый всероссийский съезд баячей будущего (поэтов-футуристов). Заседания 18 и 19 июля 1913 года в Усикирко (Финляндия) // За 7 дней. СПб., 1913. № 28 (122). 15 августа. С. 605. — Цит. по изд.: Малевич, т. 1, с. 23. 39. Малевич К. Листовка < манифест-воззвание, распространяемый на вернисаже «Последней футуристической выставке картин «0,10» (ноль-десять)»>. Малевич, т. 1, с. 35. 40. Бердяев Н.А. Русская идея: Основные проблемы русской мысли XIX века и начала XX века // Вопросы философии. 1990. № 1. С. 148—149. 41. Название книги Д.С. Мережковского «Грядущий Хам» (1906) стало нарицательным именем для обозначения левых художников; его использовал в своих критических статьях А.Н. Бенуа; по поводу искусства футуристов Мережковский написал так же статью «Еще шаг грядущего Хама» (Русское слово. М., 1914. 29 июня), не раз вольно цитировавшуюся в полемических статьях Малевича. См.: Малевич, т. 1, (Мережковский Дмитрий Сергеевич (1866—1941), по именному указателю). 42. См. примеч. 18 к разделу «Письма К.С. Малевича» в наст, изд., с. 373—374. 43. Как известно, теория Софии и основанная на этой теории концепция всеединства была разработана в философии Вл. Соловьева, затем получила дальнейшее развитие в сочинениях П.А. Флоренского, С.Н. Булгакова, Л.П. Карсавина и других. 44. Бердяев Н.А. Философия свободного духа. М., 1994. С. 436. 45. Хоружий С. К феноменологии аскезы. М.: Изд-во гуманитарной литературы, 1998. 46. Там же. С. 14. 47. Освещению влиятельности эзотерических и мистически-оккультных вероучений в мировой культуре начала XX века была посвящена выставка Духовность в абстрактном искусстве» в Лос-Анджелесе (1986) и ее обширный каталог. См.: M. Tuchman (еd.). The Spiritual in Abstract Painting 1890—1985. Los Angeles, 1986. В статьях Джона Боулта «Эзотерическая культура и русское общество» («Esoteric Culture and Russian Society», p. 165—183) и Шарлотты Дуглас «За смыслом: Малевич, Матюшин и его круг» («Beyond the Reason: Malevich, Matiushin, and Their Circles», p. 185—199) рассматривался широкий спектр вопросов, связанных с оккультными, антропософскими и теософскими влияниями на мировоззрение художников и деятелей русской культуры, проводниками которых выступали среди других труды П.Д. Успенского (см. след. примеч.). 48. Успенский П.Д. Четвертое измерение: Обзор главнейших теорий и попыток исследования области неизмеримого. СПб., 1909; Он же. Tertium Organum. Ключ к загадкам мира. СПб., 1911. 49. Малевич в книге «Тайные пороки академиков» (М., 1916) писал: «Предупреждаю об опасности — сейчас разум заключил искусство в 4-стенную коробку измерений, предвидя опасность 5-го и 6-го измерений, я бежал, так как 5-е и 6-е изме<рение> образуют куб, в котором задохнется искусство» (Малевич, т. 1, с. 56). 50. Бердяев Н.А. Философия свободного духа. М., 1994. С. 440. 51. Лосев А.Ф. Русская философия (1918). — Цит. по изд.: Ванчугов В. Очерк истории философии «самобытно-русской». М.: Пилигрим, 1994. С. 243. 52. Там же. 53. Там же. 54. Хоружий С. Указ. соч. С. 170. 55. Ведерников А. Пред-и-словие к переводу // Бимель В. Мартин Хайдеггер, сам свидетельствующий о себе и своей жизни / Пер. с нем. А. Ведерникова. Челябинск: Урал LTD, 1998. С. 15. 56. Цит. по изд.: Харджиев Н.И. Статьи об авангарде: В 2 т. Т. 1. М.: RA, 1997. С. 109. 57. Бергсон А. Философская интуиция // Новые идеи в философии. Сб.№ 1. Философия и ее проблемы. СПб., 1912. С. 2—3. 58. См.: Малевич, т. 1, с. 153—184. См. так же примем. 29 к разделу «Письма К.С. Малевича» в наст, изд., с. 377—378. 59. См. примем. 38 к разделу «Письма К.С. Малевича» в наст, изд., с. 379. 60. Малевич К. Бог не скинут. Витебск: Уновис, 1922. См.: Малевич, т. 1, с. 236—265. 61. Данные трактаты хранятся в архиве Малевича в Стеделийк Музеуме, Амстердам, и частных архивах. Впервые трактаты «1/41. Философия калейдоскопа»; «1/42. Беспредметность», «1/45. Введение в теорию прибавочного элемента в живописи»; «1/46. Современное искусство»; «1/47. Новое искусство»; «1/48. Мир как беспредметность», «1/49. Мир как беспредметность» были опубликованы Тр. Андерсеном в переводе на английский язык. См.: Malevich, vol. III, а так же ниже примеч. 73. 62. Итог длительному процессу пересмотра авторских датировок произведений Малевича подведен изданием: Казимир Малевич в Русском музее. СПб.: Palace Editions, 2000. 63. Malewitsch K. Suprematismus — Die gegenstandslose Welt. Übertragen von Hans von Riesen. Köln: Verlag M. Du Mont Schauberg, 1962. 64. Документ хранится в архиве Малевича в Стеделийк Музеуме, Амстердам. 65. Сведения о семействе фон Ризен см. в изд.: Kasimir Malewitsch. Werk und Wirkung. Ausstellung im Museum Ludwig Köln. Köln, 1995. S. 9. 66. Malewitsch K. Die gegenstandslose Welt. Bauhausbucher 11. Munich, 1927. См. так же: Малевич К. Мир как беспредметность // Малевич, т. 2, с. 55—123; 312—329. 67. Richter H. Köpfe und Hinterköpfe. Zürich, 1967. S. 101—109. 68. Письмо Эль Лисицкого невесте, Софии Кюпперс, от 23 марта 1924 года из Орселины (Швейцария) // Эль Лисицкий. 1890—1941. К выставке в залах Государственной Третьяковской галереи. М.: ГТГ, 1991. С. 151. 69. Письмо Эль Лисицкого невесте, Софии Кюпперс, от 21 марта 1924 года из Орселины (Швейцария) // Там же. С. 148—149. 70. Арватов Б.<Рец. на кн.:> К. Малевич. Бог не скинут (Искусство. Церковь. Фабрика). Изд. Уновис. Витебск. 1922 г. Стр. 40 // Печать и революция. М., 1922. № 7. С. 343—344. См. так же: Малевич, т. 1, с. 362. 71. Haftmann W. Einfuhrung // Malewitsch K. Suprematismus — Die gegenstandslose Welt. Übertragen von Hans von Riesen. Köln: Verlag M. Du Mont Schauberg, 1962. S. 7—29. 72. Andersen Tr. (ed.) K.S. Malevich: Essays on Art. Copenhagen: Borgen, 1968—1978. 4 vol. Vol. I, 1915—1928, and vol. II, 1928—1933 (1968); vol. III, The World as Non-Objectivity. Unpublished Writings, 1922—25(1976); vol. IV, The Artist, Infinity, Suprematism. Unpublished Writings, 1913—33(1978). 73. О влиянии сочинения Шопенгауэра на теории Малевича Троэльс Андерсен впервые написал в предисловии к изданному им третьему тому Собрания сочинений Малевича (Malevich, vol. III, р. 7—10). По его концепции, трактаты с дробями (1/41, 1/42, 1/45—1/49) были своеобразными откликами русского мыслителя на содержание соответствующих параграфов первого тома сочинения Шопенгауэра «Мир как воля и представление», входящих в главу под названием «Платоническая идея: объект искусства». Тр. Андерсен провел аналитическое сравнение тем и проблем Малевича и Шопенгауэра, подкрепив его таблицей. В дальнейшем гипотеза датского ученого превратилась в аксиому для западноевропейских исследователей творчества Малевича-философа. К примеру, Феликс Ф. Ингольд в теоретическом эссе «Искусство как «искусство», искусство как «жизнь». Десять параграфов об эстетике супрематизма Казимира Малевича» утверждает: «7. Малевич, Шопенгауэр. — Эти и подобные им формулировки — их во множестве и в разной форме можно встретить у Малевича, нередко они повторяются, подчас противоречат друг другу, — возвращают нас непосредственно к Шопенгауэру, которого Малевич тщательно штудировал (скорее всего, по русскому изданию Ю. Айхенвальда, 1900—10) и в высшей степени своеобразно толковал. Благодаря Шопенгауэру он попутно познакомился не только с Платоном и Кантом (ср. Schopenhauer II: 200 сл<едующие>), но и с миром восточной духовности» (цит. по изд.: Собрание Ленца Шёнберга: Каталог выставки. Мюнхен: Эдицион Канц, 1989. С. 25). 74. Martineau E. Malévitch et la philosophie. La question de la peinture abstraite. Lausanne: L’Age d’homme, 1977.
|
|
|
Главная Контакты Ссылки Карта сайта
© 2025 Казимир Малевич.
|